Нартов в Петербурге (М.Э. Гизе) (часть 2)
Нартов в Петербурге (М.Э. Гизе)
См. также Нартов в Петербурге (М.Э. Гизе) (часть 1)
"О сочинении... академии разных художеств"
В конце 1724 года обострилась давняя болезнь Петра I. Но в этом человеке жила не сломленная болезнью жажда деятельности, усиленная мыслью о том, что нет рядом надежных рук, которым он мог бы доверить управление государством и продолжить начатые им преобразования. Одним из незавершенных дел оставалась организация нового специального художественноремесленного учреждения. Проект такого учреждения под названием «Академия разных художеств» Нартов представил Петру I еще в 1724 году. Содержание проекта дает возможность увидеть в Нартове человека, способного не только организовать эту новую академию, но и стать ее руководителем. Тщательно разработанный проект был продуман им вплоть до расчета необходимых для академии помещений. Нартов подсказал Петру I и мысль поручить проектирование здания академии архитектору М. Земцову. Этот проект Земцов выполнил, но, к сожалению, он оказался утраченным.
Чем же был вызван нартовский проект и что он представлял собой? В своей книге Нартов вспоминал, как, рассматривая в токарной комнате дворца план учреждения Академии наук в Петербурге, Петр I, взглянув на Нартова, сказал: «Надлежит при том быть департаменту художеств, а паче механическому... Желание мое насадить в столице сей рукомеслие, науки и художества вообще».
Разумеется, не этот взгляд Петра I был причиной разработки Нартовым столь сложного по содержанию проекта. Истинная причина крылась в понимании Петром I значения «рукомеслия», под которым в то время понимались ремесло и мануфактурная промышленность. Вот эти две составляющие производства того времени и тесно связанный с ним класс купечества были той силой, которая, по мнению Петра I, могла существенно влиять на благосостояние государства. И он последовательно предпринимал все для их развития, в том числе и принудительные меры. По всей России в 1722 году были введены цеховые объединения ремесленников, которые занимались изготовлением и сбытом ремесленных изделий. А еще в 1714 году разрешение на это получили «мастера из иноземцев».
Поощрялась Петром I и передача в частные руки казенных предприятий. В 1702 году Демидов получил из казны Невьянский завод. В 1717 году в частные руки перешло производство штофных и других шелковых тканей, в 1718м — сахарный завод, в 1720м — кожевенный. Крупные промышленники получали и крупные привилегии: право беспошлинной торговли, освобождение от ряда повинностей и другие. Эти льготы не относились, однако, к мелким, наиболее многочисленным в государстве ремесленникам, которых беззастенчиво облагали налогами, внушая им, что тем самым они исполняют свой гражданский долг.
О гражданском долге как об одном из главных достоинств человека говорилось в интереснейшем документе того времени — в «Духовном регламенте», сочиненном Феофаном Прокоповичем и отредактированном Петром I. Вряд ли только ктонибудь из ремесленников мог утешать себя этими новыми для русской общественной мысли положениями: они были написаны на латинском языке и доступны лишь узкому кругу лиц. Но само по себе понятие гражданского долга, ставшее достоянием общественного сознания, было явлением очень значительным для понимания тех изменений, которые происходили в Петровскую эпоху в душах и умах людей. У Нартова чувство долга было одной из его главных человеческих черт, и идея Петра I «насадить в столице сей» не только «рукомеслие», но и «науки и художества вообще» стала идеей и Нартова.
Прежде всего следует напомнить, что в первой половине XVIII века понятие «художества» распространялось на различные виды технического творчества: архитектуру, строительство шлюзов, каналов, промышленных предприятий, а также на всевозможные сложные ремесла — инструментальное, оптическое, токарное и другие, овладение мастерством в которых требовало длительного обучения.
Преобразовательнокультурная политика Петра I воплощалась в различных формах. Образование профессиональных школ: московской Навигацкой школы, в которой Нартов впервые прикоснулся к наукам, Морской академии, открытой в Петербурге в 1715 году, для которой в Адмиралтейских мастерских создавались при консультации Нартова многочисленные научные приборы, Инженерной и Артиллерийской школ, медицинских при госпиталях в старой и новой столицах государства.
Для обучения нужны были книги. В 1708 году вышла в свет первая напечатанная гражданским шрифтом «Геометриа славенски землемерие».
К 1725 году было издано 342 книги светского содержания. Правда, многие из них представляли собой переводы с иностранных языков, сделанные не всегда удачно, так как переводчики, «которые умели языка — художеству не имели, а которые умели художества — языку не имели». После смерти Петра I книг издавалось несравненно меньше! Большое значение Петр I придавал и быстрому распространению всевозможных новостей: с 1702 года еженедельно сперва в Москве, а затем и в Петербурге стала выходить печатная газета «Ведомости».
В 1718—1719 годах в доме купца Кикина (Кикиных палатах) была организована бесплатная библиотека для всех желающих пользоваться книгами. Ее основной фонд со
ставляли книги, перевезенные из Летнего дворца и Людских покоев, а также и закупленные за границей специально посланным туда с этой целью И. Д. Шумахером. Там же был открыт первый публичный музей «Кунсткамера», образованный в 1714 году. Коллекции его первоначально имели преимущественно естественноисторический характер. В Кикины палаты, как писал Нартов, Петр 1 «часто бирал меня с собой».
В 1728 году Кунсткамеру и Библиотеку перевели в специально выстроенное для этого здание на Васильевском острове Через десять лет после смерти Петра I Нартов перевезет в Кунсткамеру оборудование придворной Токарни.
Среди других преобразований Петра I в области культуры наибольшее значение имело, конечно, открытие Академии наук и художеств, чаще называемой в документах того времени просто Академией наук или Академией. 22 января
1724 года Сенатом в присутствии Петра I был обсужден и одобрен «Проект основания Академии наук и художеств», а 28 января был издан указ об ее открытии.
В научнотеоретических домыслах членов «ученой дружины»— Ф. Прокоповича, В. Н. Татищева, А. Кантемира, позднее М. В. Ломоносова и В. К. Тредиаковского — вопрос об общественной значимости «социетета», или сообщества науки и художеств, занимал существенное место. Так,
В. Н. Татищев, один из видных сподвижников Петра I, государственный деятель и историк, который хорошо знал и весьма уважительно относился к Нартову, в своей книге «Разговор о пользе наук и училищ» признает воспитательную роль «наук и художеств». Не давая четкого определения цели каждого из составляющих этот «социетет», он впервые предложил систему их классификации по степени значения в формировании нравственных свойств человека. Несколько позже Антиох Кантемир, поэт, сатирик и дипломат, один из деятелей «ученой дружины», много работавший вместе с Прокоповичем над проблемой «прекрасной личности», писал, что мудрость это «все науки и художества, наипаче же нравоучение».
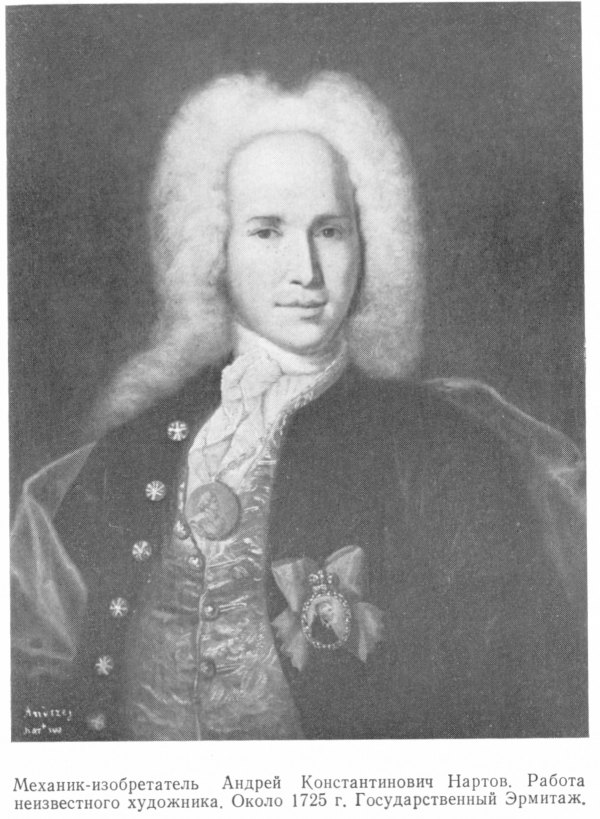
Нартов подал свой проект Академии разных художеств почти через год после одобрения Сенатом «Проекта основания Академии наук и художеств», в котором «художествам» отводилось всего лишь три строчки: «Без живописца и градыровального мастера обойтися невозможно будет, понеже издания, которые в науках чиниться будут (ежели оные сохранять и публиковать), имеют срисованы и градырованы быть». И об организации мастерской по изготовлению инструментов, необходимых для уже образованной академии, или хотя бы о найме специального мастера в проекте ничего не было сказано. Правда, рукой Петра I вписана фраза: «...книги и инструменты, которые Академии надобны, выписать или здесь делать».
Система организации Академии наук была предопределена длительной, серьезной подготовкой и стремлением наилучшим образом учесть сложившиеся в России условия, предусматривая три направления ее деятельности. Она должна была стать научноисследовательским учреждением, быть высшим учебным заведением страны — университетом и принять под свое ведение Гимназию как первоначальную ступень обучения.
Казалось бы, такая структура требовала наличия собственной «производственной» базы, которая обеспечивала бы все ее потребности. Но это нигде не было отражено, как не было сказано и об обучении в ней «художествам». Чем это можно объяснить? Только тем, что Петр I думал об организации самостоятельной Академии художеств и ремесел. Архитектор Леблон в своем плане Петербурга, выполненном им в 1717 году, предусмотрел на одной из трех площадей на Васильевском острове постройку здания Академии всех искусств и ремесел. Он расположил эту площадь вблизи от усадьбы Меншикова и обозначил академию на плане в виде двух прямоугольных корпусов, соединенных галереей.
Едва ли предложения Леблона были самостоятельны: он наверняка обсуждал их с Петром I. В более поздние годы говорил о необходимости создания отдельной от Академии наук Академии ремесел В. Н. Татищев и настойчиво добивался этого. Его предложение, по которому Академию ремесел должны были под его руководством возглавить архитектор П. Еропкин, скульптор Б.К. Растрелли, живописец Л. Каравак и механик из Академии наук, не было принято Анной Иоанновной. Любопытно отметить, что Татищев заменил фамилию Нартова, о котором он, конечно, думал как об одном из руководителей Академии ремесел, словами: «механик из Академии наук». Возможно, что он не надеялся на возвращение в Петербург Нартова, жившего с 1733го по 1735 год в Москве, но, скорее всего, опасался, что упоминание имени Нартова помешает утверждению его проекта, ведь всесильный Бирон знал об отрицательном отношении Нартова к нему и не любил мастера.
В начале своего проекта Нартов, обращаясь к Петру I, как бы суммирует свои впечатления об организации художественного образования в европейских странах. «Понеже во многих государствах чрез обретающиеся академии разных художеств многие художества распространяются в пользу государственную и состоят призрением оных академей, состоящих в собственной монаршеской опеке, во благом произвождении разных художеств...» Следующий за этими словами текст убеждает в том, что Нартову были известны планы Петра I об организации специального художественноремесленного образования: «...к тому ж видя, что Ваше величество... благоволил возиметь и сие намерение, еже возстановить корпус академически разных художеств...» И сразу же за этим Нартов недвусмысленно пишет, что этим восстановлением Петр I может «умножить и чрез сие искусное в художествах основание всюду гласимую свою славу...».
Далее идут очень значительные для понимания основной цели Академии разных художеств слова: «...по неизреченным Вашего Императорского Величества ко мне недостойному щедротам, принудило меня... сие мое всенижайшее предложение... предъявить в сочинении... вашей Императорской Академии разных художеств, которой здесь в России еще не обретается, без которой художники подлинного в своих художествах основания иметь не могут и художества не токмо чтоб для пользы государственной вновь прибавлятися, но и старые погасать (исчезнуть.— М. Г.) могут».
Что подразумевал Нартов под «щедротами», побудившими его разработать проект Академии всех художеств? Должно быть, это был устный приказ Петра I о его составлении и, возможно, обещание должности руководителя этого государственного учреждения, сочетавшего творческие, учебные и административные функции. Если принять это предположение, то становятся понятными заключительные слова проекта: «...обещаюся я по христианской должности отдать... Всемилостивейшему государю и всему нашему преславнейшему отечеству долг мой и сие дело наблюдать хощу со всяким моим крайним по возможности усердием...» Тема долга перед отечеством станет часто повторяться в документах, написанных Нартовым, свидетельствуя о его высоких нравственных качествах и патриотизме.
Допустить возможность того, что Нартов мог стать во главе нового и очень важного для развития русского «рукомеслия» учреждения, можно еще и потому, что в это время его уже нельзя было причислить к простым, пусть высокой квалификации, мастеровым. Об этом можно судить, в частности, и по его портрету, хранящемуся в Государственном Эрмитаже. На голове у него парик без буклей и менее пышный, чем у вельмож. Под синим незастегнутым, как и полагалось, кафтаном золотистый парчовый камзол, на правое плечо накинута красная мантия. На шее у Нартова золотая медаль с профилем Петра I. На левой стороне груди — медальон, увенчанный короной. На нем изображение прусского короля. Медальон был подарен Нартову во время его пребывания в Берлине в знак благодарности за обучение токарному мастерству.
Весь облик Нартова — его осанка, спокойный вид, костюм, регалии — говорит о том, что портрет был сделан при жизни Петра I, когда Нартов мог себя считать причастным к придворному кругу. И он действительно был близок к тому, чтобы окончательно вырваться из того социального слоя, к которому принадлежал по происхождению (что при Петре I не играло большой роли) и ремеслу. Предположение о том, что царь видел Нартова будущим руководителем высшего учебного заведения, кажется вполне вероятным, тем более что он был знаком с постановкой этого дела за границей и неоднократно доказывал свое мастерство и преданность идеалам Петра.
В дальнейшем тексте своего проекта Академии разных художеств Нартов выступает как специалист, уверенный, что «установлением таковой академии... имеют многие разные и светопохвальные художества размножатся и приитти в свое надлежащее достоинство». Он выступает и как здравомыслящий организатор, понимающий, что ему одному не решить всех могущих возникнуть при организации Академии разных художеств вопросов. Поэтому он дальше пишет: «...и оная академия может сочинитися обще теми достойными в своих званиях мастерами, которые во оной определены быть имеют, и иные мастера всякой о своем художестве в общую пользу предложат свои мнении...»
В этих словах Нартова звучит подлинно государственный подход, лишенный каких бы то ни было личностных, тщеславных интересов. Предложение коллегиально решить программу обучения «художествам» наверняка родилось у него вследствие обсуждения этого вопроса с широким кругом известных ему архитекторов, скульпторов, живописцев, таких, как Еропкин и Земцов, Б.К. Растрелли, Караван, не говоря уже о других мастерах — станкостроителях и приборостроителях.
Недаром сразу же за фразой «мастера предложат свои мнении» Нартов написал: «...по установлении таковой академии все мастера купно с ревностным своим желаниям просят, а без таковаго от мастеров предложения их мнениев и установить оную трудно, понеже оная повинна в себе иметь многия разные художества, о которых одному человеку фундаментально сведущу быть невозможно».
Академия, как представлял себе Нартов, предназначалась не только для обучения художествам. Она должна была и удостоверять степень мастерства ремесленников как русских, так и иноземных. «Чтоб как подданные вашего величества, так чужестранные художники приходили в оную академию для объявления себя и о своем сперва художестве; также и для обучения данных им учеников, хотя бы был вольный или невольный, не отговариваяся ничем, под штрафом за облыгание».
Эти слова требуют некоторого разъяснения: вольными художниками в первой половине XVIII века назывались те, которые не состояли на государственной службе, а брали частные заказы и выполняли их в своих мастерских или же работали в домах частных лиц. Невольные, или «казенные», художники служили в государственных учреждениях или в мастерских, где требовался их труд. А таких мест было более чем достаточно: Канцелярия от строений, Гофинтендантская и Монетная конторы, различные мануфактурные предприятия. Художники были в штате Кадетского и Инженерного корпусов и других военных и морских заведений.
Разделив перечень нужных для академии мастеров на четыре ранга, Нартов доказал общественную значимость каждой специальности.
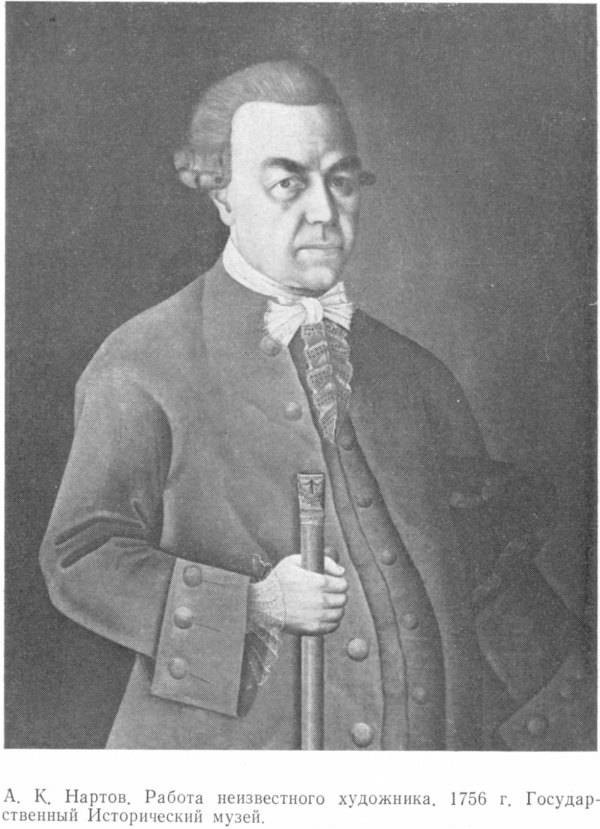
В первый ранг им были включены «архитектура цивилис», или гражданская архитектура, «механик всяких мельниц и слюзов», а также живопись, скульптура и «грыдорование». Последние три были признаны им главенствующими среди других видов искусств задолго до официального признания за ними этого права.
Ко второму рангу он причислил мастеров «иконных дел, штыхованных всяких дел, тушеванных дел, граверных дел, которой отправляет шпентели (для штамповки монет и медалей.— М. Г.)».
В третьем ранге значатся наиболее близкие самому Нартову мастерства: «оптических дел, фонтанных дел, что надлежит до гитролики (гидравлики.— М. Г.), токарных дел, что надлежит до токарных машин, математических инструментов, лекарских инструментов, слесарных дел и железных инструментов». Все эти ремесла требовали длительного обучения у мастеров высокой квалификации. Любопытно отметить, что «родное» для Нартова токарное искусство он не поставил в этой группе на первое место, а назвал его третьим.
И наконец, к четвертому рангу он отнес мастеров «плотнических дел, что надлежит до шпицов, столярных дел, типографических дел, обронных медных дел (обронными фигурами назывались рельефные украшения, выбиваемые на медных листах.— М. Г.), литейных медных дел, оловяиишных всяких дел, медных мелких... дел, серебряных всяких дел». Без их работы не могли обходиться и перечисленные в третьем ранге мастера. Кроме того, в проекте были предусмотрены: типография для печатания гражданских книг и «грыдорованных листов», «один человек для модели, с которого будут рисовать», девять служителей «для письменных дел», и предположительно было указано, что в дальнейшем будет предложен Регламент академии, узаконивающий предложения Нартова.
Но Нартову не пришлось увидеть свой проект осуществленным. Петр I успел лишь внести в него некоторые поправки. Он отделил в первом ранге «мастеров всяких мелниц» от мастеров «слюзов», из четвертого ранга исключил все «художества», кроме «плотнических» и «столярных» дел, объединил в более крупную группу «медные дела» три названных Нартовым ремесла: «обронное медное дело, литейное медное дело и медное мелкое гарнитурное дело». Таким образом, вместо 24 предложенных Нартовым специальностей осталось 19.
Нартов подал свой проект Петру I в декабре 1724 года, почти за два месяца до смерти царя, которая стала для Нартова глубоким личным горем. Все последние мучительные дни жизни царя Нартов проводил у постели умирающего. Это говорит прежде всего о признании за ним этого права самыми близкими Петру I людьми, и в первую очередь, разумеется, Екатериной Алексеевной, будущей императрицей Екатериной I.
Нартов понимал, конечно, что смерть Петра I не только перечеркнула его планы, надежду стать во главе новой Академии разных художеств. Рушилась вся его жизнь. Поднятый Петром I от «низов» почти до дворянского звания, он его все же не достиг, не получив ни необходимых для этого чинов, ни деревень. Он остался просто токарным мастером, достигшим, правда, положения руководителя Токарни. Это никого, впрочем, больше не интересовало.
Но если судьба лишила Нартова поддержки царя, то лишить его знаний и опыта, которые он приобрел, никто не мог. В глазах наиболее прогрессивных сподвижников Петра I Нартов из простого мастерового давно превратился в авторитетного в области техники человека. И это позволяло надеяться, что в будущем его опыт понадобится в решении разных интересных и сложных задач. Так оно и оказалось впоследствии.
Но пока его ожидало откровенное недружелюбие всесильного царедворца Меншикова и опасения некоторых даже уважительно к нему относившихся придворных открыто выказывать ему симпатию. Это проявилось даже во время похорон Петра I, когда кабинетсекретарь А. В. Макаров, прекрасно знавший меру близости Нартова к Петру I, из предосторожности распорядился быть ему на похоронах в такой же одежде, как и всем остальным мастеровым его Токарни. Подобные удары по самолюбию еще не раз будет испытывать Нартов, но они не смогут помешать ему ни бороться против захвативших власть в Академии наук иноземцев, ни трудиться во славу русской науки и техники.
«ДАБЫ ОНОЕ ДЕЛО... ОТПРАВЛЯТЬ РОССИЙСКИМИ МАСТЕРОВЫМИ...»
Через несколько месяцев после смерти Петра I и восшествия на престол Екатерины I Нартов, именовавшийся теперь «механик ее величества», получил указ «делать... начатый столб... вечно достойной памяти его императорского величества, на котором будут изображены разные баталии...». Триумфальный столп, задуманный Петром I во славу русского воинства, после его смерти получил новое, мемориальное значение.
Желание Екатерины I и ее ближайшего окружения продолжить работы над Триумфальным столпом из слоновой кости целиком совпадало с желанием Нартова увековечить память о человеке, который так много сделал для России. Кроме того, продолжение работы над столпом сохраняло существование придворной Токарни. Нартов сознавал, что время «курьезных махин» истекло, и хотел теперь превратить Токарню в мастерскую для производства станков промышленного назначения и всевозможных экспериментальных опытов. И немаловажно, конечно, что он сохранял за собой пусть подчиненное, но заметное место.
Однако Нартов прекрасно понимал, что ему одному с этим ответственнейшим поручением не справиться. Для изготовления медночеканных барельефов и копиров нужны были помощники, и он сам назвал их имена и откуда они могли быть взяты. Эти мастера находились в командах се
натора и президента Берги Мануфактурколлегий генерала Я. В. Брюса и числились в городской канцелярии у генерала У. А. Синявина. Как писал в своем прошении в Кабинет 19 августа 1725 года Нартов: «Мне без тех мастеров оного столба окончить невозможно».
Кого же назвал Нартов? В поданном им списке значились восемь первоклассных мастеров своего дела, имена которых постоянно встречаются в архивных документах, касающихся строительства тех или иных дворцовых сооружений. Он просил командировать к нему:
«1. Для вылепления на оной столб модели вощеные мастер Шульц.
2. Для росчищения на меди патронов мастер Фридрихсон.
3. Для отливания патронов медных пушечный мастер Шпекл. 4. К рисованию чертежей мастер Коровак. 5. Для вспомощения вылеплять вощеных моделей мастер Пино. 6. Для вспомощения розчищать медных патронов мастер Сен Манж. 7. Для отливания гипсовых моделей мастер Кондрат». И в последнем, восьмом номере этого перечня было сказано: «3 болшаго столба начертить малый чертеж архитектору Земцову».
Как видно, из восьми названных имен семь иностранных. Об этом в дальнейшем Нартову придется не один раз сожалеть.
С этого момента начались волнения Нартова, с радостью взявшегося за окончание Триумфального столпа и не предвидевшего всех трудностей, которые встретятся на его пути. А их оказалось немало. Неожиданным для него было то, что сама Екатерина I, больше всех, казалось бы, заинтересованная в скорейшем окончании столпа, загружала его посторонними заказами. Так, в январе 1726 года он должен был закончить очередную люструпаникадило и крест из слоновой кости, которые делал по ее «именному указу». Кстати, он истратил на выполнение этого заказа много слоновой кости и, боясь остаться без нее к моменту осуществления Триумфального столпа, просил Кабинет: «Есть во адмиралтействе кости слоновые четыре зу
ба и чтоб повелено было указом ее императорского величества взять оные зубы и употребить в наши дела, а там оные кости ни в какие дела не употребляютца».
Были у него огорчения и другого рода. В начале того же 1726 года его ученик Александр Жураховский, с которым он ездил в Англию и на обучение которого потратил много времени и сил, задумал уйти от Нартова. Трудно сказать, что побудило молодого токаря покинуть придворную мастерскую, которая продолжала работать не только над Триумфальным столпом. Так, в это время среди других поручений резчик Иван Захаров сделал для паникадила три формы: первая — персона государя, вторая — морская баталия и третья — для написания «титл» его величества. Чеканщик Семен Максимов расчищал копир, на котором «воображена фигура Нептунова».
Было ли решение Жураховского вызвано желанием работать самостоятельно или произошел какойлибо конфликт — неизвестно. Однако нужно отдать справедливость Нартову, который не воспрепятствовал этому решению. В характеристике Жураховскому он написал: «...оный ученик... может делать черепаховые коробки и изо всяких деревьев и из костей и от того ученика надлежит определить как и другие мастеровые люди определены». Но, чтобы сгладить неприятное впечатление, которое могло сложиться в Кабинете в связи с просьбой Жураховского об увольнении из его «команды» (а об этом Нартову надо было теперь думать!), он в том же документе заявлял, что на его место «требует быть у меня в учении Семен Матвеев понеже он Семен Матвеев имеет склонность к моему делу и может изучитися делать патронов которые надлежат к токарным махинам».
К осени 1726 года работа над Триумфальным столпом несколько продвинулась. Вместе с тем Нартову стало ясно, что надеяться на скорое его завершение он не может: слишком многое из того, о чем он просил, не делалось. По документам этого и следующего года создается впечатление, что никто, кроме него, не был заинтересован в скорейшем окончании работ, а скульптор Б.К. Растрелли и вслед за ним привлеченный к работе над Триумфальным столпом его сынархитектор особенно и не затрудняли себя.
Но зато энергия и активность предпринимаемых самим Нартовым шагов поражает. Он буквально забрасывает Кабинет своими жалобами, просьбами и предложениями; не считаясь ни с какими авторитетами, настойчиво добивается помощи, распоряжений и указаний от власть имущих. 17 сентября 1726 года он подал в Кабинет «доношение», в котором сообщал, что «мастер Шпек вышепомянутый столб глиною и воском нафурмовал», но требуемых из Бергколлегии двух мастеров для «вылепления на оном столбе восковых моделей фигур всех баталий и для рощищения медных фигур» к нему не прислали, сказав, «что они имеют нужду во иных местах для отправления государевых дел».
Легко можно себе представить, как разозлил Нартова этот ответ, ставивший под сомнение государственную важность Триумфального столпа! Далее в этом «доношении» Нартов обрушивается на Пино и Растрелли. «Также требовал я из городской канцелярии мастера резчика Пино для вылепления восковых моделей и вышеупомянутый мастер Пино оных моделей не вылепляет, но токмо время продолжает, а еще мне велено делать вощаные модели подрядом и я подряжал архитекта Растрелю... а ныне архитект Растреля на подряд оного не берет».
Остается невыясненным, почему они не принимались за работу. К сожалению, Нартов никаких сведений о своих отношениях с ними, кроме служебных документов, не оставил. Но и они говорят о многом. Так, выведенный из себя задержкой работ, вызванной занятостью именитых иноземных мастеров или тем, что они, чувствуя нерасположение к Нартову всесильного Меншикова и в угоду ему, не спешили, Нартов в том же доношении в достаточно резком и требовательном тоне пишет: «А ныне здесь предлагаю дабы оное дело вручено было мне отправлять российскими мастеровыми людьми которые искусство имеют в чеканных работах и где я оных мастеровых людей сыщу в СанктПетербурхе или в Москве и чтоб оных мастеровых людей ко мне определить указом». Волнение и спешку Нартова можно понять: он беспокоился, что уже «нафурмованная» глиной и воском модель столпа может испортиться.
Не дожидаясь результата своего «доношения», Нартов вновь обращается в Кабинет с просьбой отпустить ему из ведомства Артиллерийской канцелярии для изготовления деревянной модели столпа четырех липовых бревен. Он просил «надобных для дела модели к столбу липы четыре бревна толстотою в три четверти или в пол аршина» (примерно 53,3 и 35,6 сантиметра), «а длиннику в шесть аршин» (примерно4 метра 27сантиметров). Если условно принять нижний диаметр изготавливаемой модели 35 сантиметров, то высота ее (без пьедестала, капители, антаблемента и статуи) могла быть от 2 метров 25 сантиметров до 2 метров 80 сантиметров. Если же Нартов предпочел бы использовать бревно большего диаметра — 53 сантиметра, то высота ствола модели могла колебаться от 3 метров 87 сантиметров до 4 метров 24 сантиметров, что зависело, как и в первом случае, от выбранного Нартовым одного из двух рекомендованных Палладио соотношений между диаметром ствола колонны и ее высотой.
Через два месяца после того, как Нартов просил разрешения нанять русских мастеровых людей, он их нашел. Один из них — чеканных дел мастер Семен Максимов Воинов — оказался псаломщиком в Петропавловском соборе. После того как он хорошо выполнил «на пробу» какуюто чеканную вещь, его 12 ноября 1726 года определили «для отправления чеканных работ к столбу». Правда, для этого понадобилось разрешение Синода. Через две недели к Нартову прислали второго найденного мастера, которым оказался посадский человек (занимавшийся торговлей или ремеслом), ранее живший в Москве. Его имя — Петр Семенов.
Казалось, все постепенно налаживалось. Семен Воинов приступил к чеканке «большой штуки взятие Риги». Бревна из ведомства Артиллерийской коллегии перевезли в Людские покои. Теперь можно было приступать к созданию модели. Но вдруг все резко изменилось...
В начале февраля 1727 года Нартов неожиданно получил приказ поехать в Москву, для «дела» императрицы. Ему надлежало налаживать оборудование Монетных дворов. Финансовое положение страны в это время было очень трудное. И выходом из него стало решение о выпуске на 2 миллиона рублей медных пятикопеечников по 40 рублей на пуд меди, которая стоила на рынке от 8 до 10 рублей. Эта мера могла на какоето время облегчить положение царской казны, подобно тому как Петр I выпустил в оборот свыше 4,5 миллиона рублей с уменьшенной долей серебра в монете.
Вот для этого и послали Нартова в Москву. В своей автобиографии он напишет: «...послан был я в Москву с генералом Волковым на монетные дворы для переделу монеты двух миллионов и произведению мною к наилутчему механическим искусством в действо, произведены к монетному делу многие машины».
Для Нартова отъезд из Петербурга, пусть и временный, был серьезным испытанием. Он беспокоился о том, как пойдут дела без него в Токарне. «Оные дела приказывал отправлять ученику Ивану Леонтьеву и Андрею Коровину чтобы оне смотрели прилежно, а некоторые мастеровые люди не станут их слушать тогда... доносить в Кабинет». Озабоченный тем, что он оставляет семью, Нартов просил Кабинет выдать из его жалованья «200 рублев для моих домашних чтобы оные никакой нужды не имели». А для себя на подъем — пятьдесят рублей, «понеже я не имею шубы... и на пищу в дороге без этого мне пробыть невозможно». Эти слова свидетельствуют о том, что имущественное положение семьи Нартова после смерти Петра I было неважным. В Петербурге не иметь зимней шубы мог только несостоятельный человек, хотя получаемое Нартовым жалованье в 600 рублей не дает прямых оснований так думать. Весьма возможно, впрочем, что деньги уходили не только на содержание семьи и дома. Если вспомнить, что, будучи в Англии, он на свои деньги покупал инструменты и книги для Петра I, то можно предположить, что и дома он не жалел собственных средств на приобретение книг, инструментов и приборов.
Мысль привлечь Нартова для наладки сложных машин и станков монетного производства принадлежала не Екатерине и не Меншикову, а была подсказана В. Н. Татищевым, бывшим фактическим директором всех московских монетных дворов. Еще в 1725 году Татищев, хорошо и давно знавший Нартова, будучи в Швеции, ознакомился с изделиями стокгольмских известных механиков. Их работа настолько заинтересовала его, что он написал В. И. Геннину, бывшему в то время начальником Олонецких и Уральских горных заводов, что весьма полезно прислать туда «человека, искусного в механике, а особенно токаря Андрея Константинова». По мысли Татищева, никто кроме Нартова, не смог бы понять тщательно оберегаемые шведскими мастерами секреты и перенять их для пользы русской техники. Но то ли Геннин не имел случая довести мнение Татищева до кого надо из членов Верховного тайного совета, то ли ктото из них не захотел лишний раз назвать имя Нартова Меншикову или Екатерина I, думавшая о продолжении работы над Триумфальным столпом, решила не отпускать Нартова из Петербурга, только он никуда не поехал.
Медная монета, ради «переделу» которой Нартов был послан в Москву, изготавливалась на двух монетных дворах: на Набережном, или Монетном, и частично на Красном, которые находились в весьма плачевном состоянии и выглядели «как после неприятельского или пожарного разорения».
Нелегко было Нартову налаживать оборудование, большая часть которого была в непригодном состоянии; кроме того, пришлось столкнуться с необходимостью заниматься не только станками, но и другими, не менее существенными для монетного производства делами, например, проверкой приборов: весов, гирь, неточность которых способствовала всевозможным злоупотреблениям.
Установить, что именно удалось сделать Нартову в Москве в тот его приезд, довольно трудно изза секретности всех материалов, имеющих отношение к монетному производству. Все лица, соприкасавшиеся с ним, давали в Кабинете присягу о неразглашении сведений даже в официальной переписке. То же сделал перед отъездом и Нартов. Однако из отчетов Татищева все же можно понять, что Нартов за короткое время не только разработал систему точных весов и сделал несколько их экземпляров, но также изготовил ручные машины, на которых «делается пятикопеечников до 40 ООО рублей».
Ровно через три недели после приезда Нартова в Москву Татищев, еще раз убедившись в незаурядных способностях Нартова, опять поднял вопрос о его поездке в Швецию. На этот раз он писал о желательности его командирования к инженерумеханику и изобретателю Кристоферу Полхему, у которого он видел машину для чеканки монет, могущую на московских Монетных дворах «великую пользу показать». Он предполагал послать туда «человека, кто б оную сам тамо в действие осмотря, разобрал и сюда привез, дабы в установке какого недействия не было. Я бы весьма за благо мнил послать туда Андрея Нартова, которой не токмо ту совершенно уставит в действе, но и других дивных видя при том научится и полезные зделать может. Время же на проезд ево туда и назад более четырех месяцев не потребно, и здесь в нем нужды не будет».
Последняя фраза этого письма косвенно подтверждает,
что Нартов за очень короткий срок с помощью Татищева привел если не в полный, то хотя бы в относительный порядок хозяйство Набережного, или Монетного, и Красного дворов, где, как следовало из письма Волкова, «многие машины и инструменты стоят под открытым небом и ржавеют». Но вместе с тем невозможно предположить, что он, создав модели новых станков, успел проследить за их исполнением в натуре. Очевидно, Татищеву так хотелось, чтобы именно Нартов, а никто другой был послан в Швецию, что он пошел в своем письме на хитрость, заверяя, что «здесь в нем нужды не будет».
Как знать, может быть, именно эта несколько опрометчивая со стороны Татищева фраза и способствовала тому, что Нартов, всей душой стремившийся к незаконченному Триумфальному столпу, был вскоре отозван в Петербург. В Швецию его не послали, и уже в середине апреля 1727 года он возобновил свои требования относительно Триумфального столпа, для исполнения которого он отыскал в Москве еще двух чеканщиков, которые приехали вслед за ним в Петербург «своей волей для дела столба». Это были «Никита Васильев сын Иванов» и «Илья Григорьев сын Барыкин».
После неоднократных жалоб Нартова на то, что ни одно из ведомств, в которые он обращался, не присылает мастеровых, к нему были наконец определены Федор Емельянов, Семен Игнатьев, Григорий Григорьев, Петр Кобылин, Петр Дмитриев, Козьма Иванов, Иван Трифонов и Никита Колпаков. Все они жили на Городском острове— достаточно далеко от Людских покоев, в которых попрежнему помещалась придворная Токарня. Летом у них много времени уходило на переезд через Неву.
Одержимый скорейшим завершением подготовительных работ, Нартов настойчиво добивался их переселения ближе к Токарне, туда, где жили другие мастера, что позволяло бы им всем начинать работу вовремя. Режим в Токарне был таким же, как и у всех мастеровых в Петербурге: весной и летом они начинали трудиться в пять часов утра, осенью и зимой, естественно, позже.
После возвращения Нартова из Москвы работа над моделью Триумфального столпа стала продвигаться быстрее, и ничего, казалось, не могло ей помешать. Но 6 мая 1727 года умерла Екатерина I, и через пять месяцев в Москве состоялась коронация Петра И. Для Нартова это означало полную потерю поддержки двора. Он прекрасно понимал, что сын приговоренного к смерти при Петре I царевича Алексея не будет стремиться к завершению работ над столпом, который должен был навеки прославить имя и славные победы его грозного деда. Понимал Нартов и то, что под угрозой оказалась не только эта работа, но и существование самой Токарни.
Что оставалось делать Нартову и что он мог сделать в таких условиях? Прежде всего он старался сохранить свою «команду», состоявшую вместе с ним из одиннадцати человек. Но Меншиков, в руках которого была сосредоточена вся власть, готовясь к предстоящему переезду в Москву двора и почти всех государственных учреждений, решил, очевидно, поставить под сомнение целесообразность существования придворной Токарни. Были к тому и «высшие» соображения. При подготовке к переезду в Москву было решено, что «всему монетному делу удобнее быть в Москве, где мастеровых людей большая часть обретается и в деле монета пред здешним задельными деньгами вполы дешевле становится; того ради все монетное дело, которое имеется в Санктпетербурге, отправить из БергКоллегии в Москву в Монетную контору... А для разсмотрения в Москве на Монетных дворах всего порядку, как оной идет у МинцМейстера, у мастеров, и как весы, так и все инструменты и машины правильно сделаны и содержатся, и чтоб оное все впредь на доброе и полезное состояние приведено быть могло отправить ныне в Москву Комиссара Крекшина, машиниста Андрея Нарта, которым быть в Монетной Конторе, Крекшину Комиссаром, а Нарту по то время, как на Монетных дворах, во всех делах лучший порядок установлен будет».
Этот документ датирован 16 июня 1727 года, а осенью этого же года Нартов написал из Москвы на имя Петра II «Изъяснение» по поводу Триумфального столпа, в котором просил не ликвидировать руководимую им Токарню. Значит, и на этот раз на Монетных дворах Москвы он был всего около двух или трех месяцев, где, однако, успел наладить механическую чеканку медных пятикопеечников и создать приспособления, ускоряющие процесс производства монет.
В «Изъяснении» Нартов пишет, что начатый Триумфальный столп осуществляется «чрез механические способы» и что «такова дела... еще во всем свете не имеется». Суть этого очень коротко написанного документа выражена Нартовым в словах, лишенных придворных оборотов речи. Он просит «лабораторию механических дел содержать... по прежнему, дабы механические способы для пользы государственной неугасимы были» и здесь же обещает Петру II «всему Преславнейшему отечеству со всяким моим крайним по возможности усердием служить».
К «Изъяснению» Нартов приложил «Роспись» (список) работавших у него мастеровых. Из тех, кто служил еще при Петре I, осталось только двое: токарный ученик Иван Леонтьев и солдат Андрей Коровин — оба токари высокой квалификации. Первый был «жалован на год» шестьюдесятью рублями, второй — тридцатью. Остальные шесть слесарей и два столяра были недавно приданы Нартову для «дела столба». Из них только два слесаря — Семен Игнатьев и Козьма Иванов — получали соответственно 17 и 19 рублей. Остальные были «малоокладными», и им платили по 6 рублей. Столярам же Ивану Трифонову и Никите Колпакову был положен оклад в 26 и в 12 рублей. К суммам, получаемым «высокоокладными» работниками, добавлялось в год по 5 или 6 рублей кормовых денег. «Малоокладными» слесарями были Федор Емельянов, Петр Кобылин, Григорий Григорьев и Петр Дмитриев.
Этими подробностями в «Росписи» Нартов, повидимому, .хотел показать, что затрачиваемая на содержание Токарни сумма незначительна. И действительно, вместе с получаемыми Нартовым 600 рублями она составляла 786 рублей. А упоминание в тексте «Росписи» о том, что Триумфальный столп выполнялся по личному указу Петра I, было, очевидно, рассчитано на то, чтобы вернуть Меншикова к дням его привязанности и дружбы с царем. Что повлияло на решение не расформировывать мастерскую — доподлинно неизвестно, но Токарня осталась, и в ней еще какоето время продолжали работать над моделью Триумфального столпа и выполнять другие заказы. Известно, что Нартов показывал Токарню приехавшему в Петербург португальскому инфанту, а также литовскому гетману Яну Сапеге.
Как видно из «Росписи», ни Семен Воинов и Петр Семенов, ни приехавшие «своей волей для дела столба» из Москвы Никита Иванов и Илья Барыкин не были зачислены в штат мастерской и продолжали быть в разряде «вольных художников». Но именно их имена постоянно встречаются в «Реектах», то есть отчетах, подаваемых Нартовым в Кабинет. Так, за чеканку и расчистку «большой штуки» «Взятие Риги» Семену Воинову заплатили 20 рублей, Никите Иванову за две «больших баталии» — «Левенторпскую победу» и «Турецкую акцию» было заплачено 40 рублей, Илья Барыкин за «малую штуку» «Взятие города Елбинга» получил 10 рублей и столько же «за вычеканку Выборха».
Наименования перечисленных в «Реектах» 1727 года «штук» полностью совпадают с перечнем хранящихся в Государственном Эрмитаже барельефов из красной листовой меди с чеканными барельефными изображениями «баталий».
Копиры, или, по терминологии того времени, «патро
ны», по этим барельефам отливались в Петербургском арсенале. Об этом свидетельствует справка Канцелярии главной артиллерии и фортификации: «...в прошлых 1725, 1726 и 1728 годах по определениям главной артиллерии, по требованию оного Нартова, упоминаемый Триумфальный столб во артиллерии сделан и в 1730 году о*тдан ему, Нартову. В том же 1730 году, по требованию оного Нартова, вылиты на арсенале в дополнение того Триумфального столба плоских десять патронов, которые, как он словесно объяснил, состоят в готовности». Кто знает, если бы Нартов мог сам распоряжаться своим трудом и своим временем, ему бы, возможно, и удалось завершить модель Триумфального столпа, но его постоянно отвлекали, направляя по другим надобностям.
Так, в 1729 году его отправили, как он сам написал в своей автобиографии, «по должности моего механического искусства на Сестрорецкие заводы для переделу в монету двадцати тысяч пудов красной меди».
Сестрорецкие заводы были по прямому своему назначению оружейными. Их начали строить в 1721 году по указанию Петра I. В 1720 году вызванный с Олонецких заводов плотинный мастер Беэр нашел удобное место для сооружения плотины. Для этого пришлось перегородить русла двух рек — Сестры и Черной речки,— в результате чего образовалось искусственное озеро Разлив. Сам завод располагался в низине за плотиной и представлял собой 20 отдельно стоящих больших бараков, в которых размещены были оружейные фабрики: пушечная, проволочная, пильная, отделочная, замочная, якорная, стальная мастерская, где делались клинки и багинеты, или штыки, компасная и другие.
Невдалеке от строящегося завода, на берегу залива, Петр I облюбовал место для своей летней резиденции — дворца Дубки, от которого сохранилась часть парка, и по сей день носящего это название. Там и сейчас растут потомки дубов, посаженных по его повелению. В 1723 году
Петр I писал на Олонецкие заводы Геннину, чтобы тот прекратил производство ружей, а имеющееся для этого железо присылал на Сестрорецкие заводы, «которые уже совсем сделаны».
Когда Нартов отправился на Сестрорецкие заводы, они были уже хорошо налаженным производством, изготавливающим не только фузеи (ружья), багинеты (штыки), пистоли, шпаги и клинки, но и якоря, компасы, гвозди для Адмиралтейства (мастеровые Сестрорецких заводов принадлежали к Адмиралтейскому ведомству), топоры, пилы, весы и гири и многое другое. На заводе в это время работало более 700 человек. 564 из них весной 1724 года были переселены из Олонецких заводов. Нечего и говорить о тяжелейших условиях, в которых они жили. Для иллюстрации приведем только один факт: было запрещено отпускать на родину жен и детей мастеровых. И даже в случае смерти мастеракормильца его семье уезжать домой не разрешалось.
От Нартова на Сестрорецких заводах требовались срочная наладка работы плавильной печи и установка машины для проката меди и станков для чеканки монет. Одновременно с этим он должен был, очевидно, присутствовать при разгрузке и транспортировке тех двадцати тысяч пудов красной меди, которые водой доставлялись до пристани в Дубках и оттуда волоком перетаскивались на завод.
Но, так же как и в Москве, Нартов старался как можно скорее завершить порученные ему дела: в Петербурге его ждала неоконченная работа над Триумфальным столпом, в окончание которой он все же верил. А главное — отсутствие интереса к Токарне со стороны двора ощущалось все более, и Нартову хотелось во что бы то ни стало сохранить ее.
Не успел, однако, Нартов до конца наладить оборудование и закончить другие дела на Сестрорецком заводе, как произошло событие, которое опять и очень серьезно повлияло на его судьбу.
После смерти совсем юного Петра II на престол взошла Анна Иоанновна, племянница Петра I и герцогиня курляндская. Коронация произошла в феврале 1730 года, и вскоре новоиспеченная императрица изъявила желание жить в новой столице — Петербурге. Одни распоряжения летели туда вслед за другими. Временное затишье в петербургской жизни после переезда двора Петра II в Москву окончилось. Приготовления к встрече, приведение в порядок зданий, проектирование и строительство триумфальных арок по пути следования царского кортежа, написание стихов и картин, которыми должны были встречать Анну Иоанновну и ее фаворита Бирона,— все это требовало большого напряжения сил прежде всего архитекторов и художников, мастеров декоративноприкладного искусства.
Возможно, Нартов связывал с переездом двора в Петербург какието надежды. Может быть, он предполагал, что дочь пусть сводного, но любимого Петром I брата пожелает завершить создание Триумфального столпа в память о человеке, так трогательно относившемся и к ее отцу, и к ее матери, царице Прасковье Федоровне, жившей после смерти своего мужа при доме Петра I в почете и уважении. Но если такие надежды и возникали у Нартова, то очень скоро он понял их тщетность. Анну Иоанновну окружали немцы, по меткому выражению историка Ключевского, «усевшиеся возле русского престола, как голодные кошки возле горшка с кашей».
Имея, по словам того же Ключевского, «злой и малообразованный ум с ожесточенной жаждой запоздалых удовольствий и развлечений», Анна Иоанновна и ее окружение постоянно и непрерывно истощали русскую казну.
Но не только «развлечениями» характерно время правления Анны Иоанновны. Она свирепо преследовала тех, кто осмеливался поднять голос против немецкого засилья, за честь русской науки, русского искусства, за русскую нацию. Достаточно вспомнить горестную судьбу бывшего не
когда кабинетминистром императрицы Артемия Петровича Волынского и архитектора Петра Михайловича Еропкина, которому Петербург обязан осуществлением трехлучевой планировки своего центра. 0§а были казнены в 1740 году за организацию и участие в заговоре против «бироновщины».
В начале 30х годов XVIII века бывшей придворной Токарне Петра I все же пришлось оставить Людские покои и переместиться почти на край тогдашнего города, в так называемый Итальянский дворец, находившийся на другом берегу Фонтанки, вдали от Летнего сада. Некогда Петр I подарил Екатерине большой участок земли на левом берегу Фонтанки. Первоначально на нем у самой воды выстроили небольшой деревянный дворец. В 20х годах на его месте был построен каменный, а несколько позднее его расширили. В этой перестройке принимал участие хорошо знавший Нартова архитектор Михаил Земцов. Во время недолгого царствования Петра II и в то время, когда Анна Иоанновна была еще в Москве (в Петербург двор переехал в 1733 году), Итальянский дворец был заброшен, и весьма возможно, что именно М. Земцов порекомендовал Нартову это удобное для Токарни помещение.
И Нартов продолжал работать в Итальянском дворце. В его «команде» появились еще два ученика, которые неотлучно были при нем до самой его смерти,— Михаил Семенов и Петр Ермолаев. Поскольку они действительно всегда и везде сопровождали Нартова, похоже, между ними сложились дружеские отношения.
Жизненные судьбы М. Семенова и П. Ермолаева очень схожи. Оба родились в 1713 году в Петербурге. Отцы обоих были приписаны к ведомству Канцелярии от строений. Петр Ермолаев был «каменщиков сын», а чем занимался отец М. Семенова — неизвестно. С детства они, как потом писали сами, были «по той же команде к разным архитектам отданы». Возможно, их обучение начиналось у Доменико Трезини и только потом они стали учениками Михайла Земцова. Это весьма вероятно: есть данные о том, что к Земцову от Трезини в 1727 году перешло шесть учеников. Обучение у М. Земцова, который был, как известно, прекрасным педагогом, проходило по определенной программе. В нее входили арифметика, геометрия, изучение архитектурных ордеров, умение самостоятельно разбираться в них и составлять архитектурные чертежи.
О том, что М. Семенов и П. Ермолаев обучались у М. Земцова, свидетельствуют они сами: «В прошлом 1731м году взяты мы, нижайшие ведомства Канцелярии от строения от Михаила Земцова учениками, по требованию бывшего тогда придворного механика, господина Нартова в собственную токарню... Императора Петра Великого». Близкое знакомство Нартова и Земцова дает основание предполагать, что, откликаясь на просьбу Нартова о передаче в его ведение двух учеников, Земцов отдал ему Семенова и Ермолаева, сообразуясь с характером предстоящей им работы и их собственным желанием. Во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что выбор был удачным и что в лице этих восемнадцатилетних юношей Нартов нашел верных помощников.
Значительно менее напряженно, чем раньше, но Токарня, или Лаборатория механических дел, продолжала работать вплоть до передачи ее в 1735 году в ведение Академии наук. Любопытно отметить: хотя в самой Академии наук с 1726 года работала своя Инструментальная палата, она обращалась с заказами в мастерскую Нартова. Очевидно, он пользовался авторитетом в научных кругах. Сохранилось «Доношение» Нартова от 25 августа 1732 года, в котором он пишет: «1732 году июля 1го дня Академия наук соблаговолила ко мне прислать просительное письмо, дабы я сделал махину для обсервации господина профессора Делилю. А вышеупомянутая махина ныне сделана и во Академию наук отдана. Того ради прошу Вас, дабы соблаговолили выдать денег пятьдесят рублев мастеровым людям за кузнечную работу и за припасы, которые употреблены на вышеупомянутую махину». Делались в Токарне для Академии наук и менее значительные работы. Очевидно, Нартов был заинтересован в сохранении или, точнее, упрочении связи с Академией наук.
И это понятно: надежд на сохранение и тем более расширение Токарни не было. Перспектива же перейти в штат академии вместе со своими мастерами казалась ему привлекательной: она сулила возможность работать рядом с крупными учеными, помогая им, тем самым самому стать полезным русской науке. Но и на этот раз судьбой Нартова распорядился не он сам, а те люди, «придворным механиком» которых он был.
В автобиографии Нартов пишет: «А в 1733 году, при жизни... императрицы Анны Иоанновны... пожалован я из механиков асессором и определен в присутствие на монетные дворы в Москву... и сверх означенной должности велено быть мне при литье Большого Успенского колокола».
Присвоение Нартову чина асессора, приравнивающее его к восьмому из четырнадцати классов Табели о рангах, утвержденной Петром I в 1722 году, ставило его в иное, более высокое социальное и служебное положение. Это весьма значительное в его жизни событие было, однако, омрачено вынужденным отъездом из Петербурга. Ему снова надлежало ехать в Москву, на Монетные дворы. И снова его лишали возможности осуществить дорогую его сердцу мечту — закончить Триумфальный столп. Он прощался с Петербургом, так сильно изменившимся на его глазах. Летний сад превратился в «довольный и великий сад, в котором множество всяких деревьев с разными плодами; при том изрядные аллеи и перспективы, по коим разставлены мраморные статуи, так же фонтаны мещущия воду, при том пещера, или грот, всякими заморскими раковинами убран». И Грот, и Галерея на круглых столбах, построенная из дерева на берегу Невы, напротив центральной аллеи Летнего сада, и Зала для славных торжествований — все это было возведено Михаилом Земцовым,
а Нартов был свидетелем тех празднеств, которые происходили в этом действительно великолепном саду.
Изменился и сам город. Покрылись камнем бастионы, или болверки, Петропавловской крепости. В 1727 году вокруг Адмиралтейства, в мастерских которого так часто бывал Нартов, началось строительство каменных «магазинов» (складов), оконченное через четыре года, а прежние мазанковые были уничтожены. На набережной Невы уже возвышались каменные палаты, улицы постепенно замащивались, повсюду устанавливались фонари, открыла двери для всех желающих Кунсткамера, был вырыт Кронштадтский канал, над проектом которого Нартов начал работать еще при Петре I...
Покидая Петербург, Нартову пришлось продать свой дом. Он был ему дорог: в него приходил Петр I, здесь родились его старшие сын Степан и две дочери — Анна и Пелагея, которые теперь уезжали с ним и его любимой женой Пелагеей Артемьевной.
Вместе с ними в Московскую монетную канцелярию были посланы и его «механических дел ученики» М. Семенов и П. Ермолаев. Впоследствии Нартов писал, что они «такожде посланы были со мной из Лаборатории... и были при мне всегда, как при науке, так и при всяких случившихся к работам при рисовании в чертежах безотлучно».
Чего ждали от Нартова, посылая его на Монетные дворы? Прежде всего увеличения прибыли государственной казне при любых переделах на монеты слитков из золота, серебра или меди. С технологическим процессом изготовления монет он был уже хорошо знаком. Здесь же ему предстояло переделать часть оборудования, усовершенствовать некоторые процессы в монетном производстве. Одним из изобретений Нартова стала «махина» для толчения неизбежного в то время при производстве монет своеобразного отхода, так называемого «монетного сора». Раньше собираемый вручную «сор» вручную же толкли в ступках. Работа эта была трудоемкой, выполняли ее на четырех ступках двенадцать человек. После вмешательства Нартова благодаря механизации этого процесса, для обслуживания тех же четырех ступ хватало двух человек. От этого получалась экономия на одном только жалованье. Но главное — намного уменьшился «угар», то есть потери драгоценного металла, который можно было вернуть в дело.
Будучи человеком деятельным, творческим и по широте охвата решаемых им задач поистине государственным, Нартов не мог довольствоваться решением только технологических вопросов, хотя этого, казалось бы, доставало для утверждения за ним репутации знатока монетного дела. Он заинтересованно и глубоко занимался всем кругом проблем, так или иначе связанных с монетным производством и метрологией.
Не мог Нартов равнодушно относиться и к фактам явных и скрытых злоупотреблений, которые становились возможными изза неточностей в весах и гирях на Монетных дворах. С прямотой истинного питомца «гнезда Петрова» боролся он с обстоятельствами, открывавшими путь хищениям. Противостоять им могла новая десятичная система мер и весов, предложенная Татищевым, в обдумывании которой, без сомнения, принимал участие и Нартов. Кроме того, в этом деле могло помочь и изготовление эталонов мер и весов. Нартов предполагал на основании исторических примеров изготовить образцы и, осуществив со всей тщательностью их в натуре, передать на хранение в Академию наук, предварительно, как предлагал Татищев, потребовав от нее «мнение как оныя весы и меры в пропорции и делении учреждены быть имеют, чтобы одно другим проверяться могло». Некоторые эталоны Нартову удалось изготовить позднее, когда он руководил Инструментальными мастерскими Академии наук.
Работая на Монетных дворах в Москве, Нартов не мог не общаться и с профессором механики И. Г. Лейтманом, приехавшим в Россию в 1726 году по приглашению Академии наук. 4 июня 1733 года был высочайше утвержден до*
клад графа М. Головкина о разделении Монетной конторы на две «экспедиции» и о назначении в нее асессором Андрея Нартова. А 12 июня в Москву также приехал Лейтман с приказанием быть «при сплавке серебра и переделе в монеты». Одновременное пребывание на Монетных дворах такого великолепного инженераизобретателя, каким был Нартов, и такого видного ученогоприборостроителя, как Лейтман, не могло не способствовать развитию у обоих новых идей. Лейтман сделал по заказу Монетной конторы большие весы, «которые с пудами и гирями». Нартов наверняка консультировался с Лейтманом по поводу эталонов мер длины, но, поскольку тот умер в 1736 году, об их совместной работе не осталось никаких документов.
Нартов прожил в Москве менее трех лет и вернулся в Петербург. Причин тому было несколько. И прежде всего, конечно, та, что Нартов закрыл пути возможных злоупотреблений. Это не могло нравиться тем, кто ранее пользовался ими, и послужило поводом для многочисленных жалоб на него всесильному царедворцу графу М. Г. Головкину, в ведении которого находилось монетное производство. И доносы повлекли за собой его раздражение вместо, казалось бы, естественной благодарности и неприязнь к Нартову, которую он ощущал на каждом шагу.
Кроме того, самому Нартову просто неинтересна была роль простого механика Монетных дворов. Налаженное им оборудование не нуждалось более в его постоянном внимании, а занимавшие его вопросы метрологии могли быть решены только в контакте с учеными Петербургской Академии наук.
Сыграло свою роль и то, что, преданный памяти Петра I, он не оставлял мысли завершить начатый им Триумфальный столп. А этого он не мог сделать без сконструированных им некогда «куриозных» токарных махин. Уезжая из Петербурга, он не только запер их в Итальянском дворце, но и опечатал. Однако опасения за сохранность оставленных станков не покидали его, и он намеревался перевести их в более безопасное место, каким не без основания считал Академию наук. Но для этого нужно было ехать в Петербург. И наконец, была еще одна важная причина, носившая сугубо личный характер. После смерти в Москве его первой жены Пелагеи Артемьевны Нартов женился вторично — на Александре Александровне Полозовой; Она была столбовой дворянкой, то есть ее род был записан в «столбцы» еще в XVI или XVII веках. Но знатное происхождение не помешало ей выйти замуж за Нартова, уже ожидая, впрочем, внебрачного ребенка К чести Нартова, нужно сказать, что он оказался терпимым и только «как возможно всяческими надежными словами увещал» и просил некоторое время до родов не выходить из дома, «но она сама себя огласила, почему нетерпимый себе стыд он на то принимал, паче же от того и скорбь к нему Нартову приключилась». Действительно, его достоинству был нанесен тяжелый удар, предопределивший все невзгоды его дальнейшей жизни, и его желание уехать скорее из Москвы можно понять.
Официально перевод Нартова в Петербург был разрешен в марте 1736 года. Но фактически он уехал несколько ранее. Об этом свидетельствует интересный документ. Уже в январе 1736 года в Академию наук от Нартова поступило «Доношение», в котором он писал, что «по осмотру моему в Итальянском доме, кои имеются за печатью махины и инструменты, все в целости, токмо во оных покоях в студеных описывать и чистить никак невозможно, а топить во оных покоях великое имеется опасение, понеже печи в них ветхи... И по мнению моему надлежит оные махины и инструменты, собрав и покласть в ящики, и перевесть, за моею печатью, в оную главную Академию наук». После чего он просил, чтобы Академия наук выделила помещение для всех перевозимых предметов и чтобы это было сделано «без замедления».
В тоне, которым пронизано «Доношение» Нартова, ощущаются те присущие ему чувства собственного достоинства и независимости, которые в дальнейшем способствовали взаимным уважительным отношениям между ним и М. В. Ломоносовым, сохранявшимися всю жизнь. Эти же черты характера Нартова были причиной открытой вражды с захватившим в то время управление Академией наук И. Д. Шумахером, который покровительствовал всему иностранному и чинил помехи нормальной работе русских ученых.
«УЧРЕДИТЬ академию НАУК... ПАЧЕ ДЛЯ СВОИХ ПОДДАННЫХ...»
По возвращении в Петербург Нартов был определен в «Лабораторию к механическим токарным махинам» Академии наук. «Под командой» у него находились ученики и мастеровые. Получив назначение в Лабораторию, Нартов понимал, что и двор и академия ожидали от него прежде всего окончания работы над Триумфальным столпом из слоновой кости.
С чем столкнулся Нартов в Академии наук после более чем двухлетнего отсутствия в Петербурге? При ней работали три мастерские, или, как их тогда называли, палаты: Оптическая («першпективных трубок и микрошкопиев»), которую после смерти И. Е. Беляева, первого мастера с момента открытия Оптической палаты в Академии наук, возглавил его сын И. И. Беляев. Второй палатой была Инструментальная, где после смерти старшего мастера И. И. Калмыкова его место занял П. О. Голынин, и третьей палатой была Слесарная. В деятельности академии существенное место занимали экспериментальные работы, для которых в этих палатах как по требованию академиков, так и по заказам двора и частных лиц изготавливались различные научные инструменты.
К этому времени в составе Академии наук уже существовала Академия художеств, «четырьмя художниками украшенная». В 48м параграфе поданного в Сенат в сентябре 1725 года Регламента Академии наук, который так и не был утвержден, говорилось, что в Академии художеств будут заниматься ученики, которые не могут рассчитывать на успехи в науках и способности которых склоняли их в сторону «других хитростей». И действительно, художники Л. Каравак, И.Э. Гриммель, скульптор К. Оснер, гравер А. Вортман преподавали в академии рисование, медальерное, гравировальное, камнерезное дело; резчикам и столярам преподавали ваяние. Конечно, этому перечню «художественных» дисциплин и специальностей далеко было до той программы, которую вынашивал Нартов, создавая свой проект Академии разных художеств.
Но за двенадцать лет многое переменилось, и прежде всего изменился сам Нартов. В 1736 году его занимали уже более серьезные задачи, чем развитие всего комплекса ремесел, хотя он не переставал уделять много внимания «инструментальному художеству» и созданию научных приборов. За эти годы он стал крупнейшим в государстве мег ханикомстанкостроителем, специалистом по холодной обработке металлов, организатором монетного производства. Изменились характер и масштабы его деятельности, но неизменными остались преданность петровским начинаниям, желание служить интересам русской науки «к высокой славе и пользе отечества своего».
Первым организационным действием Нартова в Академии наук стало объединение всех мастерских в единую Экспедицию лаборатории механических и инструментальных наук, чаще называемую Инструментальными мастерскими. Примитивное оборудование мастерских он вскоре сумел заменить первоклассными станками и инструментами. Но прежде всего Нартов потребовал улучшения быта работавших у него мастеровых. Уже в августе 1736 года он писал «Доношение», что «мастера и ученики имеют жительство при работе своей, в мастерских покоях». Указывая на то, что при этом помещения трудно сохранить в должном порядке, он предупреждал, что «небрежение в варении се
бе пищи» может привести к пожару, а кроме того, навести порядок в имеющихся инструментах «никак невозможно».
В первые годы работы Нартова в Академии наук у него в подчинении находилось 20—25 человек. С именами братьев Ивана и Андрея Беляевых и их ученика Матиаса Андрисона связаны успехи в области оптического производства. Самым высокооплачиваемым мастером был токарь Иван Леонтьев: его жалованье по тем временам было очень большим и составляло сто рублей в год. Андрей Коровин, Михаил Семенов и Петр Ермолаев, ближайшие ученики Нартова, переведенные в Академию наук из придворной Токарни в Итальянском дворце, получали сперва по 42 рубля и только после долгих хлопот им повысили оклад до 60 рублей. При Инструментальной палате были подмастерья и ученики: с 1731 года вместе с Иваном Калмыковым работал выдающийся мастер Петр Голынин; несколько позднее к Нартову пришли Исаак Качалов, Филипп Тирютин, после смерти Голынина ставший во главе инструментального дела. Он воспитал таких Мастеров, как Николай Чижов, Петр Кесарев, Андрей Колотилин. Кроме них в Лаборатории работали слесарь Григорий Кондарацкий, Андрей Поляков, Александр Овсянников. При инструментальном деле также находились еще Михаил и Афанасий Кошкаровы, Михаил Яковлев, Василий Иванов, Семен Суворов. В штат Инструментальной палаты был придан и в будущем известный рисовальщик и гравер Михаил Махаев.
Желающих работать у Нартова находилось немало. Мастеровых привлекали и дело, и авторитет Нартова. Кроме того, жалованье в Инструментальной палате значительно превышало заработок в других местах. Этим можно объяснить и возникновение в русском приборостроении потомственных династий не только в XVIII, но и в XIX веке. Так, в конце 1730х годов к Нартову пришли сыновья слесаря Григория Кондарацкого — Петр и Семен, сыновья
Ивана Леонтьева и Андрея Коровина — оба Василии. Сначала их приняли на испытательный срок, чтобы определить их способности и прилежание, положив жалованье в 4 рубля.
Но не все работавшие у Нартова мастеровые стали первоклассными «художниками» своего дела. И тем не менее Петр Голынин, Филипп Тирютин, Исаак Качалов, Петр Кесарев, Николай Чижов стали гордостью русского инструментального искусства и во многом своими приборами и инструментами способствовали успехам науки и развитию многих отраслей промышленности.
Деятельность Экспедиции лаборатории механических и инструментальных наук была чрезвычайно разнообразной. Так, за 1739—1741 годы в Оптической палате по инвенции профессора Делиля для «лучшего и основательного исследования соляных заводов с Украины» мастера Беляевы изготовили четыре малых и два больших барометра. По требованию профессора Рихмана «против посланного образца» они же сделали несколько стеклянных реторт. По заказу профессора Крафта были отделаны машины для «усмотрения погоды», кроме того, деревянные точеные круги, шар и несколько цилиндров, используемые им на лекциях по физике.
За помощью в Инструментальные мастерские обращались не только профессора, но и различные подразделения академии. По заказу типографии, например, Нартову надлежало сделать один «печатный стан» для печатания гравюр. Как в то время практиковалось, он изготовил модель, по которой на Сестрорецких казенных заводах изготовили настоящий печатный станок «самым добрым мастерством из самого же доброго сибирского мягкого железа». За исполнением этого заказа на заводе «безотлучно» следил Иван Леонтьев. Выполнялись и другие заказы академии, особенно много их поступало от руководителя рисовальной палаты И.Э. Гриммеля и учителей академической Гимназии.
В соответствии с общей практической направленностью всех реформ Петра I одним из пунктов проекта Академии наук предписывалось помогать мануфактурам и вольным художествам в исправлении нужных им инструментов. И мастерские под руководством Нартова изготовляли и ремонтировали всевозможные предметы для многих предприятий и частных лиц. Но больше всего заказов в эти годы поступало с сибирских заводов. Обращались в Экспедицию и Канцелярия Главной артиллерии и фортификации, Канцелярия Академии наук и другие. Для геодезических работ изготовлялись астролябии, угломеры, чертежные инструменты, необходимые не только для различных производств, но и для организованных Татищевым в Сибири общеобразовательных «цифирных», а также «знаменовальных», или «рисовальных», школ.
Для флота требовались компасы и иглы для них, зрительные трубки — их делали в Оптической палате. В частности, был заказ Фортификационной конторы «для усмотру приходящих в Ревель кораблей и протчих судов». Очевидно, они оказались лучше тех, которые изготовлялись в инструментальной мастерской Адмиралтейства. Об этом можно судить по тому, что видные чиновники предпочитали обращаться именно в ведомство Нартова. Отдавал чинить сюда свои инструменты генералмайор Апраксин. Для самого В. Н. Татищева Петр Голынин сделал в 1741 году универсальные часы, графу М. Г. Головкину, герцогу брауншвейгскому, тайному советнику Неплюеву за эти годы были сделаны солнечные часы, печатный станок, починены коляски. Но и совсем не «именитые» люди заказывали инструментальной мастерской солнечные часы, инструменты для черчения, водоподъемные машины.
Постоянно обращался к Нартову и двор. Мастера делали для всевозможных иллюминаций и празднеств фонари, строили для дворцовых резиденций всевозможные «махины». Степан Яковлев, например, был послан в Петергоф «к делу мельниц», то есть налаживать машины с водяным приводом для шлифования камней. Модели машин изготовлялись в мастерских. И это уже не говоря о постоянных мелких поручениях Анны Иоанновны по припанванию серебряных носиков и починке ручек и шишечек у всевозможных чайников и кофейников.
Все заказы шли к А. К. Нартову через Канцелярию Академии наук, во главе которой стоял И.Д. Шумахер. За двадцать лет работы Нартова в Академии наук многократно менялись ее президенты. После Л. Л. Блюментроста был Г.ККайзерлинг, потом И.А. Корф, К. фон Бреверн, КГ. Разумовский. Президенты менялись, а истинным правителем оставался Шумахер — злой гений русской науки.
Он приехал в Россию в 1714 году двадцатичетырехлетним магистром искусств, получившим эго звание в Страсбургском университете, и стал исполнять должность «библиотекаря и надсмотрителя редкостей и натуралиев», составивших ядро будущей Библиотеки Академии наук и Кунсткамеры. Человек энергичный, предприимчивый, но тщеславный, Шумахер был затем определен на должность секретаря академии и «надсмотрителя» Кунсткамеры „и вскоре подчинил себе весь академический аппарат. 6н встал во главе образованной по его воле академической Канцелярии. Создаваемая как технический орган, она вскоре узурпировала административную власть над всеми подразделениями и направлениями деятельности академии, включая и самое главное — ее научную и педагогическую работу. Это был не только акт бюрократизации науки. Шумахер фактически передал власть в академии иноземцам, в основном немецким ученым, нисколько не беспокоясь о будущем русской науки.
Всеми имеющимися в его распоряжении средствами Шумахер стремился досадить Нартову, справедливо опасаясь его неприязни. Он сразу разгадал в Нартове человека, способного противопоставить его властолюбию и стремлению ущемить роль русских людей в развитии отечественной науки свою приверженность основной цели академии,
сформулированной еще Петром I. В третьем параграфе «Проекта положения об учреждении Академии наук и художеств» сказано: «...такое здание (учреждение.— М. Г.) учинить, чрез которое бы не токмо слава сего государства для размножения наук в нынешнем временем распространилась, но и чрез обучение и розпложение оных польза в народе впредь была».
Нартов постоянно ощущал неприязненное отношение Шумахера, которое проявлялось от пренебрежительного обращения во всех бумагах на «ты» до задержки Нартову и его мастеровым выплаты жалованья. Стремясь унизить Нартова, он даже не упомянул ни его самого, ни работающих с ним мастеров в книге «Палаты Санктпетербургской императорской Академии наук, ее Библиотеки и Кунсткамеры с кратким показанием всех находящихся в них художественных и натуральных вещей, сочиненное для охотников, оныя вещи смотреть желающих». Подготовленная к изданию Шумахером, роскошно изданная книга вышла в свет в 1741 году.
Но и Нартов не скрывал своего отрицательного отношения к Шумахеру, поскольку не мог мириться с тем, например, что русских детей в Гимназии учили иноземцы, не говорившие порусски, а за все время работы академии ни один русский человек не был подготовлен к тому, чтобы претендовать на звание академика. Нартов целиком был на стороне тех академических «низов», а ими являлись русские переводчики, служащие, мастера, которые были подавлены привилегированным положением иностранцев в академии, и не стеснялся говорить об этом. С момента своего приезда в Петербург летом 1741 года к этой группе примкнул и М. В. Ломоносов.
Кроме руководства объединенными в Экспедицию мастерскими Нартов участвовал в экспертизах самых разнообразных изобретений в области механики, предлагаемых на оценку академии. Его имя постоянно встречается в документах рядом с именами Эйлера, Крафта, Винсгейма и других видных ученых — математиков, физиков и даже астрономов.
Экспертизы касались самых разнообразных предметов: новых таможенных весов, молотильной машины, модели Хитрова для поднятия Царьколокола. Эту модель Нартов осматривал, очевидно, с особенным интересом. Уезжая в Москву летом 1733 года, он знал, что ему предстоит не только работа на Монетных дворах. Он также должен был участвовать в литье Большого Успенского колокола. Свое название колокол получил благодаря внушительным размерам: его вес — 200 тонн, высота — б метров, диаметр — 6,6 метра. Он был отлит известным русским литейщиком Андреем Чоховым в 1599 году и подвешен в Филаретовой звоннице, выстроенной рядом с колокольней Ивана Великого в Московском Кремле.
Однако время не пощадило Царьколокол. Он неоднократно падал и разбивался. Последний раз это случилось в 1701 году, и только спустя тридцать лет императрица Анна Иоанновна повелела: «Тот колокол перелить с дополнением, что б в нем в отделке было 10 000 пудов». Литье нового, уникального колокола, подобного которому не было во всем мире, поручили артиллерийского ведомства колокольному мастеру Ивану Моторину, работавшему со своим сыном Михаилом. Но и на этот раз его не удалось поднять, о чем, кстати, предупреждала Академия наук, куда И. Моторин в 1732 году отправил для экспертизы свой проект.
Об участии Нартова в этих работах можно узнать из написанного им в 1736 году отзыва на предложенный Хитровым проект подъемных механизмов для Царьколокола. «А модель Хитрову, привезенную из Москвы, для поднятия Успенского колокола я не признаю удобну, и в ней не согласуюсь...» Свои замечания он прерывает рассказом о том, что им самим было сделано во время его пребывания в Москве.
Несколько выдержек из этого текста могут осветить характер его участия в этом деле. «Прошлого 733го года поведено мне учинить для поднятия большого Успенского колокола проект, по которому указу немедленно и сочинил». Далее следует, что Нартов, осмотрев с «бывшим в Москве архитектором Мордвиновым старую колокольню в тех местах, где был старый Успенский колокол... в Кабинет сообщил... что оное строение к поднятию нынешнего Успенского колокола явилось не удобным, потому что разселося». Оказывается, И. Моторин был предупрежден об опасности подъема кожуха из ямы его способом не только комиссией Академии наук, но и Нартовым: «Мастер колокольный Моторин, сделал приуготовление для поднятия кожуха, на что я ему советовал, что оная сделанная махина поднять кожуха не может. И как все то приуготовление было сделано, то стали поднимать тот кожух... не осмотря тяжесть кожуха; почему случилося, что положенные крепости вверху, которые были толщиною бревна в диаметре по аршину переломились...»
В результате осмотра старой колокольни Нартов не только признал ее не годной, но сочинил проект, по которому ясно было, что «на новопостроенную, от меня изысканную, колокольню тот колокол поднять без вреда и великого иждивения... возможно, понеже положил я всякия механическия предосторожности, которые Ея Императорским Величеством и Ея Величества Кабинета министрам предложены и явились весьма потребны».
Однако до того, как поднимать колокол на «изысканную» Нартовым колокольню, нужно было поднять кожух, и это было сделано Нартовым до его отъезда в Петербург. Вот что он писал об этом: «По должности моей, видя я такое несчастие (неудачу Моторина.— М. Г.), приложил попечение: сочинил для поднятия того кожуха проект, который объявил... Семену Андреевичу Салтыкову да... Григорию Петровичу Чернышеву. И тот мой проект ими принят... и велено с того проекта сделать модель... и по ней... тот кожух благополучно и поднят. А тяжести в нем было... более семи тысяч пудов». Таким образом, можно сказать, что участие Нартова в поднятии кожуха было решающим.
Но Нартова в Академии наук привлекали не только к экспертизам, но и к участию в освидетельствовании мастеров. Сохранились документы о том, что в 1739 году профессора Эйлер, Крафт и механики Брункер и Нартов присвоили звание мастера бывшему подмастерью Адмиралтействколлегии Андрею Мартынову.
Все это свидетельствует не только о признании практических и теоретических знаний Нартова крупнейшими учеными, но и о популярности Инструментальных мастерских академии. Даже с далекого Урала управляющий там местными казенными заводами В. Н. Татищев прислал Нартову двух учеников — Терентия Кочкина и Давыда Козицына. Ссылаясь на то, что на заводах некому не только изготовлять, но и ремонтировать присылаемые туда маркшейдерские и математические инструменты, он просил, «чтобы впредь в том при заводах оскудения не было», принять в Академию наук двух школьников «из геометрической науки» и «в показанной науке обучить». В конце 1737 года в ответе на запрос об их успехах в Канцелярию Главного правления сибирских и казанских заводов Нартов писал, что уральцы «против академических инструментальных учеников равное искусство имеют». Такого высокого мастерства они достигли за три года.
Руководство и налаживание работы всех мастерских Академии наук отнимали у Нартова много времени, но тем не менее он не мог и не хотел ограничиваться ролью администратора и эксперта. То он представлял академическому руководству сделанный им ранее «пресс для печатания табакерок или коробок» в академической типографии, то создавал машину для правильной торговли «хлебным вином или водкой» или конструировал пожарный насос «для всенародной пользы, который воду подымает на верх на 23 фута».
Талант Нартова-изобретателя между тем мужал, и вскоре он сделал действительно выдающиеся изобретения.
В 1738 году он сконструировал станок, принципиальное решение которого на несколько десятилетий предвосхитило нечто подобное в европейской технической практике. Это был токарновинторезный станок для изготовления крупных многозаходных винтов с прямоугольной нарезкой, «которые приуготовляют к различным машинам и слесарным инструментам» Станок имел механизированный суппорт и набор сменных зубчатых колес — принципиальное новшество, используемое в станкостроении и до наших дней. Этот факт доказывает ошибочность укоренившегося суждения о том, что такую конструкцию первым якобы разработал Генри Модели, известный английский станкостроитель. Между тем он родился только в 1771 году, то есть спустя 33 года после того, как Нартов заявил о своем изобретении.
Механическое производство деталей для машин служит, как известно, основой механизации и автоматизации производства, и в развитии его Нартову принадлежит почетное первое место. В своем «Предложении», обращенном к Академии наук, Нартов подчеркивает значение изобретенного им станка «для делания винтов», отмечая его роль в освобождении отечественного производства от необходимости покупать их за границей. «А обретающиеся здесь, в России, фабриканты оные винты выписывают к своим фабрикам изза моря, немалым коштом. И ежели б такая махина была в России, то б фабриканты более к выписыванию таких винтов к фабрикам охоты не имели б».
Но и совершенствованием металлорежущих станков не ограничивал свое призвание Нартов. Он искал применения своих сил в более, как ему казалось, жизненно важной для России области — в создании первоклассного вооружения для русской армии. Сюда влекло его с юности воспитанное в нем чувство патриотизма, еще более обостризшееся во время работы в Академии наук под началом презираемого им Шумахера.
Это стремление было не случайно, ибо с вопросами артиллерийского вооружения Нартов был знаком давно. На его глазах происходило оснащение молодого русского флота и армии новыми видами оружия, и прежде всего артиллерией. Жить рядом с Петром I, постоянно встречать в Токарне или в Летнем дворце таких выдающихся воинов, как Шереметев и Меншиков, слушать их рассказы о сражениях Северной войны и не увлечься ими было невозможно. Сопровождая Петра I в его поездках на Марциальные воды и попутно заезжая на оружейные Олонецкие и подмосковные заводы, он изучал там технологию литья пушек, гаубиц и мортир. Был хорошо знаком с открытой в 1721 году в Петербурге так называемой «третьей артиллерийской школой» при лаборатории Пушкарского двора, начальником которой был подполковник М. М. Витвер. Есть даже предположение, что Нартов какоето время преподавал в ней. Работая в 1729 году на Сестрорецком заводе, он также соприкасался с производством огнестрельного оружия. Короче говоря, его изобретения в области артиллерии имели под собой давно и хорошо подготовленную почву.
23 января 1740 года Нартов подал в Канцелярию Главной артиллерии и фортификации «Доношение» об изобретении им способа сверления «глухих», то есть цельных пушек, отлитых без «калиберу». Правда, в «Доношении» он отметил, что до него способ «цельные бес калибру пушки лить» изобрел живший в Швейцарии французский арканист Мариц, но, естественно, держал его в секрете. Отдав, однако, дань вежливости и справедливости, Нартов сообщал далее, что он над этой проблемой работал «немалое время» и теперь «по своему изобретению может те цельные пушки сверлить».
Ответом на это «Доношение» Нартова, уже в марте 1740 года, был именной указ в «де сианс академи», в котором было велено «Академии асессору Нартову нужное дело исправить в артиллерии». Однако в этом указе говорилось, что заниматься этим он должен был «между академическими делами» и чтобы не было «в академических делах остановки». О важности этого изобретения говорят находящиеся под указом подписи: Андрей Остерман (член Верховного тайного совета), Алексей Черкасский (канцлер) и Артемий Волынский (кабинетминистр). Кстати, двое из них — и Остерман, и Черкасский — несколько ранее подписали и указ о возвращении Нартова из Москвы в Петербург (третья подпись на том документе была князя Юсупова).
Нетрудно себе представить, как сложно было Нартову, не прерывая ежедневных забот об академических мастерских, находить время для работы над изобретением. Чтобы провести проверочный эксперимент, надо было отлить цельную пушку, для сверления которой «махина у него имеется». И Корфу с Шумахером ничего другого не оставалось, как подписать указ, разрешающий Нартову «некоторое нужное дело исправить в артиллерии». И все последующие годы Нартову приходилось буквально разрываться между академией и ведомством Главной артиллерии и фортификации. Пушечный двор находился невдалеке от Летнего сада. И с Васильевского острова, где во дворце царицы Прасковьи Федоровны располагалась Академия наук (сейчас на этом месте здание Зоологического музея Академии наук), добираться нужно было на шлюпке. В ответ на просьбу Нартова о шлюпке Шумахер заявил, что будет давать на нее разрешение только в случае поездки на другую сторону Невы по академическим делам. Если же это нужно Главной артиллерии, то пусть она и обеспечивает переправу.
Все это, разумеется, не способствовало нормальной работе. К тому же со времени переезда в Петербург на душе у Нартова было неспокойно изза семейных неурядиц. Правда, он получил от академии казенную квартиру, вернее, «двор с четырьмя покоями» на 3й линии Васильевского острова «близь реки» еще в 1736 году (к сожалению, в настоящее время его точный адрес невозможно установить). Академическая Канцелярия пояснила, что Нартову квартира предоставляется, вопервых, за его прилежные труды, вовторых, что «всем профессорам квартиры даются» и «особенно, что всегда должно ему для осмотра машин и над работными людьми быть при Академии».
Нартов поселился в этом доме с «механического дела» учениками и со своей семьей: женой, двумя дочерьми и сыном от первого брака Степаном, который до 1740 года числился учеником Инструментальной палаты.
Вторая жена Нартова оказалась женщиной несдержанной. Она била дворового человека Ивана, при очередной ссоре «хотела ударить своего пасынка Степана поленом». Эти слова принадлежат ей самой и внесены в протокол ее объяснения, которое она давала в связи с желанием Нартова расторгнуть с ней брак, явлением по тем временам весьма редким. Повидимому, совместная жизнь была настолько нестерпима, что в июне 1738 года Нартов решился на этот шаг, мотивируя его в своем заявлении тем, что она ему «бесчестие вчинила, отчего в положенные на него Нартова дела великое ему помешательство чинила и затем де положенные на него дела отправлять ему невозможно и он от немалой печали почти здоровья своего не лишился». И здесь же, разуверившись в радостях семейной жизни, Нартов пишет, что «до кончины жизни своей законного брака ни с кем чинить не желает и не будет, в чем и подписывается».
И все же Нартов, повидимому, не смог устоять перед обещаниями жены «впредь никаких непотребств не чинить» ему и простил ее. Скорее всего, это решение было принято потому, что в 1737 году в семье Нартовых родился второй сын, названный в его честь Андреем. Разуверившись в способностях Степана, который не оправдал надежд отца, Нартов стремился воспитать во втором своем сыне друга и помощника во всех начинаниях, как оно и получилось.
Андрей Андреевич Нартов с честью носил имя своего отца. Он стал крупным деятелем русской культуры, был одно время президентом Российской Академии и организатором Вольного экономического общества. Знал много языков, был прекрасным переводчиком и другом многих выдающихся людей своего времени. Может быть, именно неурядицы в семейной жизни заставили Нартова полностью уйти в любимое дело и завершить работу над винторезным станком.
А в апреле 1741 года в ответ на представление Канцелярии Главной артиллерии и фортификации вышел указ правительствующего Сената о пожаловании Нартову за «его искусство» ранга коллежского советника «с жалованьем против иноземцев по 1200 руб. в год, сверх того в награждение дано денег 1500 руб.».
Это было большим повышением в чине, и оно, казалось бы, должно было придать Нартову в глазах Шумахера безусловный вес. Но фактически ничего не изменилось, кроме разве обращения в посылаемых на его имя бумагах. Там вместо начальнически пренебрежительного «ты» появилось сперва «высокоблагородный господин советник государь мой Андрей Костянтинович», а затем изменился и характер подписи: «Вашего высокоблагородия покорнейший слуга Шумахер».
Нетрудно догадаться, что повлияло на эти метаморфозы. Получив в 1746 году за свои «инвенции» звание советника артиллерии, Нартов стал принимать участие в заседаниях Канцелярии Главной артиллерии и фортификации, когда там обсуждались вопросы, касающиеся артиллерии. Шумахер, естественно, понимал, что постоянный контакт Нартова со знатными вельможами, заседающими в Канцелярии, делает его почти неуязвимым, особенно с момента получения им чина коллежского советника и награждения крупной суммой денег. И все же, несмотря на это, Шумахер не мог лишить себя удовольствия хоть както ущемить Нартова и, ссылаясь на трудное финансовое положение академии, не выплачивал ему не только положенного по указу жалованья, но и наградных сумм.
Зная о расположении Анны Иоанновны и ее царедворцев к Шумахеру, Нартов понимал всю бессмысленность любой попытки призвать его к порядку. Однако недовольство Шумахером было очень велико, и жалобы на него множились. Еще в январе 1729 года профессора академии послали на имя Петра II прошение, в котором просили об ограничении полномочий, единолично захваченных Шумахером. Через три года, после возвращения Анны Иоанновны из Москвы в Петербург, академики Ж.Н. Делиль, Д. Бернулли и И. Дювернуа, отвечая на запрос Сената и ратуя за коллегиальное руководство академией, требовали, чтобы Шумахера «от наших советов выключить вон». Но ни отъезд по его вине из Петербурга таких крупных ученых, как Г.Б. Бюльфингер, Д. Бернулли, Л. Эйлер, ни прямые обвинения в адрес Канцелярии и ее руководителя не возымели действия. В своем тщеславии Шумахер до^ шел до того, что ставил свою подпись под всеми академическими документами наряду с именем президента и его заместителя по Конференции.
И все же мало кто решался открыто выступить против Шумахера. Однако не в характере Нартова было слепое подчинение. Он не мог спокойно смотреть на бездушное отношение к работающим в академии русским мастерам. Это особенно проявилось в эпизоде с первоклассным мастером инструментального дела Петром Осиповичем Голыниным, который начал работать в академии в 1731 году и трагически погиб в 1746 году, после девятимесячного пребывания в Тайной канцелярии, куда попал по подозрению в неизвестном политическом преступлении.
В июне 1741 года к Шумахеру обратился с просьбой принять его на службу некий Готгельф Соммер, приехавший изза границы. Иностранного имени оказалось доста
точно, чтобы Шумахер в ультимативной форме написал Нартову: «Извольте принять в ведомство ваше в инструментальную палату... и по свидетельству онаго мастера» предоставить в Канцелярию сведения о его «удостоинстве» и жалованье.
Нартов прекрасно понимал, что Шумахер хотел уволить ни в чем не повинного Голынина, которого он не любил за его солидарность с Нартовым, и на его место принять этого иностранца. Однако все кончилось тем, что при проверке уровень мастерства Соммера оказался столь низким, что Нартов отказался вообще принять его к себе в мастерскую. Идти против мнения коллежского советника Шумахер не захотел, и Голынин остался на своем месте.
В конце ноября 1741 года в России произошел очередной дворцовый переворот. На этот раз на престол была возведена дочь Петра I Елизавета. Передовые деятели России видели в ней наследницу петровских начинаний, радовались окончанию «бироновщины» и ждали возрождения национальных русских традиций. Естественно, что эта волна патриотических тенденций дошла и до Академии наук.
Первым подал жалобу на Шумахера в Сенат в январе 1712 года профессор астрономии Делиль. Вторым был Нартов. В рукописном отделе Библиотеки имени В. И. Ленина в Москве хранится документ «Копия с доношения А. Нартова на Шумахера в Сенат. 22 января 1742 г.». Наверху заглавного листа написано, что эта копия «переписанная— черновая вся писана рукою Ломоносова».
Начинается документ с обращения «Высокоправительствующему Сенату». После короткого введения следуют четыре рукописных листа самого «Доношения», состоящего из девяти пунктов. Приведенная выше надпись дала повод предположениям, что текст «Доношения» составлен не Нартовым, а Ломоносовым. И даже высказывалось мнение, что нет ничего предосудительного в том, что Нартов в таком серьезном случае обратился с просьбой к Ломоносову написать этот документ.
Предположить, что документ был целиком составлен Ломоносовым, нельзя по двум причинам: вопервых, он, приехав в Петербург в 1741 году, не мог в начале 1742 года быть достаточно хорошо осведомленным в делах академии, чтобы столь подробно описать все недостатки. Вовторых, зная нрав и принципиальную честность Нартова, невозможно предположить, чтобы он мог подписаться под документом, составленным не им, и тем более подать его в Сенат. Допустить же, что Нартов консультировался с Ломоносовым при написании своего «Доношения», вполне возможно: будучи человеком умным, он понимал стилистическую несовершенность своего слога. Если же хранящийся в Библиотеке имени В. И. Ленина в Москве документ был действительно написан рукой Ломоносова, то это означает, скорее всего, что Ломоносов, которому Нартов показал написанное им «Доношение», решил оставить у себя его копию: она могла ему пригодиться в дальнейшей борьбе с Шумахером, которого он считал виновным во всех непорядках, царивших в академии. Мысли и факты, изложенные Нартовым в «Доношении», совпадали с его собственными.
«Доношение» начинается с оборота, часто встречающегося в документах Нартова: «Понеже всему свету известно». За ним шли острые и злые слова о том, что Петр Великий, «опекая науки, повелел учредить Академию наук и художеств не для одних чужестранных но паче для своих подданных». Далее он пишет, что после смерти Екатерины академия, находившаяся в правлении «определенных членов (между которыми бывший и ныне находящийся советник Шумахер во всем правлении властным учинился) в такое состояние приведена, что никакого плода России не приносит кроме единого повреждения» и что он, Нартов, по должности своей «яко член того правительства и сын отечества не мог умолчать чтоб о том Правительствующий Сенат не представить».
Первый пункт жалобы обвиняет Шумахера в сокрытии от всех Регламента академии, благодаря чему «прежние учителя не видя Е. И. В. намерения и усмотря происходимыя при том непорядки принуждены были без показания России плода в свои отечества возвратится». Этим пунктом Шумахеру наносился ощутимый удар: Сенат беспокоили распространившиеся в Европе слухи о неблагополучии дел в академии. И Шумахер был действительно в этом виноват. Об отъезде профессора высшей математики Я. Германа и профессора логики и метафизики Г.Б. Бюльфингера, работавших в академии с момента ее основания, он писал: «Господа Герман и Бюльфингер уже точно завтра уезжают. Слава и благодарение господу». Угрожая крупнейшему ученому математику и физику Л. Эйлеру и профессору химии и естественной истории И.Г. Гмелину, он в 1731 году предлагает им от имени президента Блю* ментроста уехать, если они чемлибо недовольны.
В следующих трех пунктах «Доношения» говорится о денежных злоупотреблениях Шумахера. Нартов понимал, что для Сената, озабоченного финансовыми затруднениями страны, это может иметь важное, если не решающее, значение. Он писал, что Шумахер определял профессорам «не малые суммы не по достоинству», а академическим служащим задерживал жалованье больше чем на год, отчего они «претерпевают великую нужду». Упрекнул он его и в том, что казенные деньги Шумахер расходовал по своему усмотрению «к немалому казенному убытку», отчетов же о том «доныне в ревизию не дает».
В шестом, седьмом и девятом пунктах Нартов обращает внимание на то, что раньше профессора в академических изданиях печатались на русском «диалекте, что делало их доступными для всех». И что «обучение российского народу молодых людей оставлено. А происходят в науках чужестранные... и чрез такие непорядки и нерадение никто из российских людей в науках ни в каких в профессоры с начала Академии наук и поныне не произведены». Говоря о непорядках в Библиотеке и Кунсткамере, собрания которых состоят в несчетных сокровищах, Нартов считает Шумахера виновником случившегося зимой 1741 года пожара и выражает сомнение в существовании инвентарных описей, по которым в случае повторения какоголибо бедствия можно было бы «знать и сыскать» недостающее.
И только в одной фразе пятого пункта, в котором он обвиняет Шумахера в том, что тот приписывал себе многое из того, что было сделано по указу Петра I, Нартов пишет об ущемлении его собственных интересов. О том, что Шумахер «злости ради» не включил его в список членов академии, хотя «по высочайшей их императорского величества милости в той Академии нахожуся», что ему не дают «секретаря да канцеляриста и копииста». Заканчивает Нартов свое «Доношение» просьбой принять его в Сенате и создать особую комиссию.
Вслед за Нартовым жалобу на Шумахера написали работающие в академии М. Коврин, И. Пухорт, П. Шишкарев. Кроме них поставили свои подписи канцелярист Д. Греков, переводчики И. Горлицкий и Н. Попов, копиист Б. Носов, ученик Гравировальной палаты А. Поляков и комиссар М. Камер. Эта жалоба повторяла «Доношение» Нартова, добавляя к нему обвинение в том, что Шумахер выдает государственные тайны. Нартов решил отвезти жалобы лично в Москву и передать в руки Елизавете Петровне, в благожелательном отношении которой к себе он был уверен.
Но для того чтобы поехать в Москву, нужно было получить разрешение, минуя Шумахера. Пользуясь тем, что двор и Сенат были в Москве, где праздновалась коронация Елизаветы Петровны, Нартов послал бумагу в Сенатскую контору в Петербурге. Он писал, что ему необходимо поехать в Москву в связи с поданными им в Сенат проектами, касающимися высочайших государственных дел, и для «объявления в Москве... ко артиллерии секретных дел». Здесь же Нартов добавил, что в его отсутствие порученные ему дела по академии будет исполнять профессор Делиль. Доводы были столь внушительными, что разрешение было выдано. Вместе с Нартовым был отпущен и его ученик М. Семенов.
Узнав об этом, Шумахер негодовал. В письме к Штелину, посланном вдогонку Нартову, Шумахер писал: «...теперь сенатская контора по представлению Нартова без ведома Академии передала этому Делилю Экспедицию инструментальных и лабораторных наук — так титулуется теперь инструментальная мастерская! Это позор!»
Елизавета Петровна в первые годы своего правления стремилась показать себя последовательницей петровских традиций. По ее повелению была организована комиссия по расследованию злоупотреблений Шумахера. Его и двоих близких ему людей — контролера Гофмана и книгопродавца Прейсера — подвергли домашнему аресту, длившемуся три месяца. Нартову было поручено управление Академией наук, что он и осуществлял в течение полутора лет.
Нелегко пришлось Нартову на этом посту. Он встретился сперва с глухим, а затем и открытым сопротивлением профессоров. Каждое его действие тут же обжаловалось в следственной комиссии. Она состояла из трех человек, не имевших никакого представления о деятельности Академии наук,— президента Адмиралтействколлегии графа Н. Ф. Головина, президента Военной коллегии С. Л. Игнатьева и президента Коммерцколлегии князя Б. Г. Юсупова. Судя по протоколам комиссии, Головин почти не принимал участия в ее работе, не приезжал на ее заседания, сказываясь больным. Игнатьев был человеком малограмотным и не мог разбираться в запутанных академических делах. Вершил делами комиссии князь Юсупов, отличавшийся своей беспринципностью. О его нравственном облике можно судить по такому факту: в период «бироновщины», получив место губернатора с сохранением камергерского жалованья, он писал Бирону: «...припадая к Высочайшим стопам Вашей Высококняжеской Светлости, рабственно ноги целую...»
Деятельность свою в академии Нартов начал с решительных организационных преобразований. Одним из первых шагов в его работе стало увольнение «излишних» людей, «которые жалованье от Академии получали немалое время и оное праздно и втуне препровождали». Среди них было трое немецких учителей. Они не знали русского языка и поэтому обучали «иноземных» детей. Кроме того, один из них брал за обучение деньги, второй был глух и почти ничего не видел, третий, оказавшийся братом профессора А. Миллера, по нескольку недель не ходил на занятия. Несмотря на абсолютную обоснованность их увольнения, оно вызвало недовольство, и особенно, конечно, у Миллера. На место уволенных Нартов назначил «русских людей»: Василия Тредиаковского и Ивана Горлицкого для обучения русских детей грамматике, латинскому и французскому языкам. Он писал, что кроме них «над гимназией может смотрение иметь адъюнкт Ломоносов и другие».
Много времени и сил отдал Нартов попыткам урегулировать денежные затруднения академии. Он изыскивал для этого различные способы — от прямого обращения в Сенат до взимания денег за взятые из книжной лавки книги, купферштихи (гравюры) и прочие вещи. Общая сумма задолженности «приватных» лиц составляла 7942 рубля. Задолжниками, среди которых числились все приближенные Бирона, сам Миних, принц гессенбургский, друг Шумахера советник Юнгер и другие, были и русские. И надо же было так случиться, что в этом списке оказались и члены следственной комиссии. Только обладая принципиальностью Нартова, можно было за своей подписью послать в Адмиралтействколлегию «промеморию» с напоминанием о том, что адмирал Головин должен за забранные им книги и прочее 97 рублей. Игнатьев, узнав об этом, тут же заплатил 5 рублей, которые он был должен с 1739 года.
В поисках возможностей по сокращению академических расходов Нартов по предложению императрицы предупредил живших за границей почетных членов Петербургской Академии наук, что им впредь пенсии выдаваться не будут. Но главным источником финансовых затруднений Нартов считал наличие при Академии наук художественного департамента. Он подал об этом обстоятельное «Доношение» в Сенат. Вопрос о неудобстве двух академий под одной крышей неоднократно поднимался не только в самой академии, но и при дворе. Наличие в академии палат Рисовальной, Словолитной, Переплетной, Фигурной, Пунсонной, Гравировальной, типографии, а также нанятых многих живописцев и других художников поддерживал Шумахер. Они помогали ему выполнять заказы царствующего дома. Опасаясь Шумахера, запрашиваемые по этому поводу профессора внятного ответа не давали. Один Делиль не побоялся сказать, что объединение двух академий в утвержденном при жизни Петра I проекте не предусматривалось. В 1742 году Нартов подал письменное предложение об учреждении Академии художеств, «надзираемой особливым директором». Но ни тогда, ни в 1743 году он не получил добавочных сумм, и «художества» продолжали съедать положенные Академии наук деньги.
Однако многие в Академии наук неодобрительно относились к новациям Нартова. И естественно, что с профессорами отношения у него не складывались. Он не доверял никому из них. Кроме того, Нартов знал, что среди профессоров есть люди, способные изъять из протоколов академических собраний компрометирующие Шумахера материалы. Он боялся, что ктото мог переслать за границу данные о результатах проведенных в России научных экспериментов и, как выяснилось много позднее, держал свои военные «инвенции» у себя дома, а не в академии. Весьма возможно, что Нартов, движимый самыми лучшими намерениями, действовал не так, как должно было действовать, желая завоевать авторитет у работающих в академии ученых. Но он не был дипломатом и обладал прямолинейностью характера, не позволившей ему найти лучшие формы общения с людьми.
Все предпринимаемые Нартовым действия к улучшению дел в академии принимались в штыки.
Профессора жаловались на него императрице, и Следственная комиссия была неизменно на стороне жалобщиков. Уже в середине января 1743 года он получил из комиссии указ о прекращении им «самовольных поступков в отношении профессоров Академии наук». У него требовали ответа, по какому «неправому подозрению» он запечатал архив бумаг и корреспонденции профессоров и шкафы географического департамента. Вовторых, его упрекали за то, что он посылает к профессорам приказы, что для нихде оскорбительно, и предлагали: в случае если он захочет чтолибо им сообщить, то делать это «по прежнему обыкновению» на латинском, немецком или на российском языке и в конце посылаемых им сообщений подписывался бы своею рукою: «вашего благородия покорный слуга». К тому же напоминали, что все, что профессорам «по академическим делам потребно», он обязан выполнять.
И еще профессора требовали от него объяснения, по какому праву в палату, где происходили обычно профессорские собрания, несколько раз под видом осматривания печатей входили адъюнкт Ломоносов с Горлицким, Пухортом и Камерой да еще при этом «весьма чувствительное учинилось бесчестие». Весь набор обвинений и приказаний, под которым подписался член следственной комиссия С. Игнатьев, кончался нравоучениями и очевидным осуждением Нартова. Как было ожидать от комиссии объективного рассмотрения полученных императрицей Елизаветой жалоб, если в самом начале следствия она разговаривала с Нартовым в таком тоне!
Однако к людям, которых Нартов ценил и уважал, он всегда относился вежливо и предупредительно. Об этом можно судить по письму, присланному из Парижа А. Д. Кантемиром, известным русским поэтом и дипломатом, который был в то время русским послом. Кантемир писал: «Государь мой Андрей Константинович! Покорно Вам, государю моему благодарствую за письмо Ваше... которым благосклонно меня уведомили, что книги из Академии ко мне не были отправлены, но впредь отправлены будут по моему прошению... Ежели сверх того какие новые книги в академии изданы, пересылкою оных я много буду Вам обязан».
И конечно же, в академии были и те, кто принял сторону Нартова. Это прежде всего служители разных палат, одолевавшие его просьбами о выдаче им задержанного еще «за прошлый 1742 г. жалованья, отчего находимся босы и наги и с домашними своими таем гладом». Он находил поддержку и в среде бедствующих студентов, которым старался помочь. Будущий крупнейший русский математик, академик, а затем и почетный член академии Котельников писал: «...в такое пришел нищенство, что не только зимняго принужден и летняго платья лишится в такой скудости, но уже и последние башмаки с ног свалились, так что уже отнюдь не в чем на слушание лекциев ходить». Последняя фраза этой просьбы звучит особенно шемяще: «...а ежели сего невозможно сделать, то хотя б только на сапоги, чтоб мне в учении моем остановки не было».
Поддерживали Нартова астроном и географ Ж.Н. Делиль, а также бывший в то время адъюнкт Михайло Ломоносов. Он видел в Нартове искреннее стремление освободить русскую науку от иноземного влияния и ценил в нем умелого руководителя инструментальной палаты, где для Ломоносова первоклассно делались сложные приборы. В одном из документов следственной комиссии в июле 1743 года, когда дело Шумахера было фактически уже закончено, Ломоносова называли «сообщником» Нартова. Сам Ломоносов находился тогда уже под арестом, а Нартов безуспешно обращался в следственную комиссию с требованием освободить узника, указывая, что «от сего случая не токмо искренняя его ревность к наукам в упадок приходит, но и то время, в которое бы других учением своим пользовать мог, тратится напрасно, а отечеству пользы не приносит».
Об уважительном отношении Ломоносова к Нартову свидетельствует такой факт: когда Следственная комиссия после очередной жалобы профессоров потребовала от Ломоносова объяснить свое поведение, он ответил, что над ним «главную команду» имеет не комиссия, а Нартов, без распоряжения которого он отказывается давать какиелибо объяснения.
Уже после смерти Нартова Ломоносовым была написана работа «Краткая история о поведении Академической канцелярии...». В ней, подчеркивая роль Нартова в «бунте» против Шумахера, он говорил, что Нартов, «уведав от академических многих служителей, а паче из жалобы от профессора Делиля о великих непорядках, напрасных убытках и о пренебрежении учения российского юношества, предпринял все сие донести... императрице Елизавете Петровне», за что в дальнейшем терпел, по словам Ломоносова, от Шумахера всяческие «утеснения».
Ломоносова в Нартове кроме его преданности русской науке и готовности сражаться за нее с власть имущими привлекала его кипучая деятельность. Кроме того, Нартов был интересен для Ломоносова как мастер резьбы по кости, которая на родине у Ломоносова была одним из основных видов народного искусства.
Нартова же не мог не привлечь молодой пылкий, талантливый человек, одинаково одаренный как в науках, так и в изобразительном искусстве, удивительно сочетавший в себе талант теоретикаисследователя и ученогопрактика и также готовый идти в бой за то, чтобы освободить русскую науку от иноземного влияния, далеко не всегда положительного.
Разница в возрасте, в положении: адъюнкт и советник;
разный уровень образованности: один самоучка, дошедший до всего самостоятельно, другой — обучавшийся в Славяногреколатинской академии в Москве, в университете в Петербурге, потом в Германии — не помешали им, однако, соединиться в борьбе с Шумахером. И то, что они проиграли ее, никоим образом не отразилось на их отношениях. За два года до смерти Нартова Ломоносов в письме к И. И. Шувалову писал: «Старался достать по приказу Вашего превосходительства «Примечания на Ведомости», но получить их не мог. Уже многие и за несколько лет их спрашивают, однако сыскать не могли, затем что их по малу было печатано и не по мере Российского государства, а особливо ныне узнав наш народ пользу наук больше такие книги хранит для их редкости. Г. советник Нартов сказал, что у него есть, только непереплетенные и не в одном тексте между политическими рассеянные, и обещался собрать для вашего превосходительства, однако не могу знать, сделает ли».
Во время своего управления делами академии Нартов в своей нелюбви ко всему, что было привнесено в русскую жизнь периодом «бироновщины», позволил себе неслыханный по тем временам поступок.
В сентябре 1743 года из Кабинета императрицы Елизаветы академия получила запрос, принят ли и поставлен в удобное место «медный портрет» Анны Иоанновны, который делал скульптор Растрелли. Речь идет об известнейшей бронзовой статуе стоящей во весь рост императрицы с арапчонком, в которой Растрелли точно передал ее напыщенную властность и гонор. На этот запрос «за закрепою Советника господина Нартова» был послан ответ, в котором он писал, что портрет до сих пор не взят, так как кроме большого при библиотеке зала его ставить некуда и что он настолько тяжел, что для его внесения нужно было бы не меньше 30 солдат, а что в Академии нет такого количества людей и что «в деньгах такое оскудение, что и довезть сего портрета нечем».
Как будто нельзя было Кабинету откомандировать на перевозку статуи любое необходимое число солдат! За всеми отговорками Нартова достаточно ясно просматривается очевидное нежелание своими руками принять портрет той самой императрицы, посещение которой в марте 1732 года академии дало возможность Шумахеру показать себя с наилучшей стороны, устроив в ее честь пышное празднество. На него, впрочем, никто из профессоров приглашен не был.
Как можно было после этого ожидать того, чтобы назначенная Следственная комиссия беспристрастно отнеслась к разбору жалобы на Шумахера? Что этого не будет — стало ясно с первых же месяцев ее работы. Но особенно очевидно это стало с октября 1742 года, когда начались аресты жалобщиков. К апрелю 1743 года их взяли под стражу. Нартова не посмели арестовать, зная благожелательное отношение к нему императрицы Елизаветы Петровны. Взбешенный действиями Следственной комиссии, Нартов 20 апреля 1743 года написал на имя императрицы «Доношение» с просьбой освободить арестованных, которые «как сущие злодеи и похитители государственной казны под прежними караулами содержатся уже четвертой, а протчие и седьмой месяц, от которого безвинного посягательства... пришли в великое уныние и слабость». Не ограничиваясь этим, Нартов обвиняет комиссию в недобросовестности. Он просит императрицу рассмотреть доклад комиссии, которая «во облегчение ему Шумахеру поступала... и с чего оной комиссии неправильные запретные поступки советника Шумахера... видимы будут».
Комиссия, естественно, никогда бы не допустила того, чтобы «низкие люди», «бунтари» пошатнули положение Шумахера — авторитетного для них представителя власти. И, кроме того, как позднее писал Ломоносов, Шумахер только «знатным представительством избавлен». Этим «знатным представительством» был иностранец, лейбмедик Елизаветы Петровны, известный в Европе авантюрист
Лесток, который какимто образом был связан с Шумахером и с членом комиссии Б. Юсуповым.
Жалобщикам был вынесен суровый приговор, по которому их надлежало подвергнуть телесному наказанию и сослать. Однако «высочайшей милостью» они были избавлены от этого. И вполне возможно, что здесь повлияло заступничество Нартова, с которым правительству приходилось считаться.
Как это ни удивительно, но Нартов, терзаемый со всех сторон непривычными для него административными делами по академии и ведущимся следствием, активно работал над своими изобретениями в области артиллерии, привлекая к ним и свою «команду». Так, весной 1743 года по его приказу в Канцелярию Главной артиллерии и фортификации должны были явиться «для некоторого дела» лучшие мастера Инструментальной палаты: подмастерья Иван Леонтьев, Петр Голынин и инструментального дела ученик Александр Овсянников.
В годы, последовавшие за возвращением Шумахера в академию, Нартов, которому было предписано «надзирание над токарною инструментальною палатой иметь попрежнему», вернулся к работе над Триумфальным столпом из слоновой кости. Шумахер, желая отомстить всем, к го осмеливался выступить против него, и в первую очередь Нартову, чинил ему, говоря словами Ломоносова, «всевозможные утеснения». Из них отказ в предоставлении ему квартиры был не самым значительным.
Вспомнив, что официальным поводом для приглашения Нартова в Академию наук послужило завершение работы над Триумфальным столпом, Шумахер доложил в Сенат, что Нартов не только не исполнил своей главной обязанности, «но и чрез шесть лет оного не начинал». В ответе на полученный из Сената запрос Нартов ссылался на отсутствие денег, необходимых для покупки материалов. Кроме того, он просил прислать ему высококвалифицированных мастеровых из Канцелярии от строений: резного ма
стера Франца Дункера и золотарного мастера Лепренца. Требуемые Нартовым деньги были ему выданы, и мастеровые люди получили приказ все, что он скажет, «исполнять без остановкою». Но, несмотря на обещание Нартова, что столп «всеконечно будет к окончанию приведен совсем в скором времени», этого не произошло.
В начале декабря 1747 года в Академии наук произошел большой пожар. Шумахер, желая ущемить Нартова, решил переместить свою Канцелярию в помещение Рисовальной и Гравировальной палат. Им же назначил комнаты, ранее занимаемые инструментальными мастерскими, где, как писал Ломоносов, «имел заседание Нартов, который для сего принужден был очистить место, рушить свое заседание, и инструменты и мастеровые разведены по тесным углам. Сие же было причиною академического пожара».
Академия изза этого перемещения понесла убыток: почти невозможным стало изготовление приборов и инструментов на продажу широкой публике, что было одной из ощутимых статей дохода для академии. В мастерских Нартова, как отмечалось в прибавлении к «СанктПетербургским ведомостям» за 17 января 1743 года, изготовлялось более ста наименований различных оптических, метеорологических, геодезических, чертежных и других приборов и инструментов, которые можно было приобрести в академическом магазине.
Во время пожара, причины которого так и не были расследованы, сгорели многие экспонаты Кунсткамеры, в том числе полностью уничтожен и знаменитый Готторпский глобус. Библиотека, к счастью, пострадала меньше. Ценою громадных усилий Нартову и его мастеровым удалось вынести из огня сделанные Петром I предметы и почти все невероятно тяжелые станки и инструменты, в том числе и те токарные «махины», которые по распоряжению Нартова были привезены из села Преображенского под Москвой, на которых работал в юности Петр I. Еще в 1736 году за ними ездили М. Семенов и А. Коровин, доставив их на пяти саняхподводах. Были спасены и подготовленные для вытачивания Триумфального столпа «патроны» и инструменты.
Нартов писал, что «учинившимся пожаром... преславные токарные машины и инструменты и при них деревянные пьедесталы и наборы железной и медной весьма повредили» и что «без исправления означенных махин для произведения в действо триумфального столпа начать никак невозможно». Вопервых, они были размещены в тесных и темных комнатах дома Демидовых, который находился вблизи от Академии наук. Вовторых, все мастеровые во главе с Ф. Н. Тирютиным, получившим после смерти П. Голынина звание подмастерья и ставшим к тому времени наиболее знающим и опытным работником Инструментальных мастерских, были привлечены к исправлению, вернее, к созданию заново Готторпского глобуса.
Когда через три года вновь сделанный глобус был завершен и для него в центре площади перед зданием Двенадцати коллегий уже строился специальный павильон, Нартов опять поднял вопрос о необходимости работы над Триумфальным столпом. Он связывает свои надежды по завершению работы с именами своих верных учеников — Михаилом Семеновым и Петром Ермолаевым. После пожара 1747 года их знание конструкции токарных «махин» позволило им создавать чертежи утраченных деталей и передавать их для исполнения другим мастеровым.
Но для его завершения у Нартова, ввиду его занятости и, как он сам писал, «за слабостию моего здоровия», не было ни времени, ни сил. Никому, кроме своих учеников Михаила Семенова и Петра Ермолаева, он не мог поручить такую работу. Но сперва нужно было их научить точить на станках: ведь раньше они занимались только чертежной работой. В 1751 году Нартов передает их опытному подмастерью токарного дела И. Леонтьеву, поручив обучить их токарному делу на «токарных куриозных овалистых и патретных махинах». Но Леонтьев вскоре умер, и дальнейшая работа над созданием Триумфального столпа опять затянулась. Однако к марту 1753 года долгие подготовительные работы близились к концу, и Нартов попросил Канцелярию академии приобрести куски пальмового дерева и «слоновый зуб чистой доброты мерою в диаметре в 6 дюйм». При этом он предупредил, что только после того, как выточенные из пальмового дерева «баталии» будут апробированы, можно приступать к их изготовлению в слоновой кости.
В этом же «Доношении» он сообщил, что предполагает установить столп, «равного которому ни здесь, ни в прочих государствах не имеет быть», в Кунсткамере, где находились все собранные им реликвии, относящиеся к Петру I, в том числе и упоминаемая в «Описи» 1741 года «деревянная модель Триумфального столпа». Но удалось ли ему закончить Триумфальный столп из слоновой кости или он в силу каких-либо причин вынужден был отказаться от его завершения — неизвестно: документальных следов дальнейшей работы над ним найти не удалось. Скорее всего, у него к тому времени уже не было для этого ни физических, ни моральных сил.
«ТАКОЙ... ОГНЕННОЙ ИНВЕНЦИИ НЕ СЛЫХАНО»
Военные реформы, которые Петр I проводил в начале XVIII века, были так же необходимы России, как и другие государственные преобразования. Без них не представлялось возможным дальнейшее укрепление как внешней, так и внутренней политики России.
Уроки, извлеченные Петром I из поражения под Нарвой, помогли быстрому перевооружению армии, в которую с конца XVII века была введена артиллерия. Реформы о армии проводились в очень широком масштабе — от открытия в 1701 —1702 годах нескольких артиллерийских и инженерных школ, создания специальной легкой артиллерии, сопровождавшей конницу, и введения лошадей для подвозки боеприпасов до развития металлургического производства на Урале и строительства новых заводов, изготовлявших артиллерийские орудия.
Артиллерия в то время подразделялась на четыре вида: большая, или осадная, была оснащена 140и 160миллиметровыми пушками и девятипудовыми мортирами; гарнизонная, или крепостная, имела 70и 160миллиметровые чугунные пушки, а также одно, двухи пятипудовые мортиры; полковая имела трехфунтовые пушки; полевая, объединенная в 1700 году в отдельный полк, имела в своем составе шесть пушек от 3 до 24 фунтов и восемь мортир от 1 до 2 пудов. В изданном Петром I указе о производстве артиллерийского вооружения было сказано, «чтобы орудия ни чертой (размером.— М. Г.) более или менее назначенного были». Изобретения Нартова имели отношение ко всем этим видам.
Король Фридрих II в 1759 году, участвуя вместе с Англией и Португалией в Семилетней войне против Австрии, Франции, Испании, Швеции, Саксонии и России, создал конную артиллерию, заимствуя эту идею у русских. Он говорил, что «драгуны и казаки, сопровождаемые артиллерией, причинили ему не мало вреда неожиданными действиями картечью». К чести русских артиллеристов, нужно сказать, что .они прекрасно владели всеми хитростями артиллерийской науки. Участвующий в победоносном сражении под Нарвой в 1704 году генерал Огильви говорил, что «ни у одного народа не встретить такого умения обходиться с своими пушками и мортирами, как прошлого года у русских под Нарвой».
И тем не менее многое в материальной части артиллерии предстояло улучшить для того, чтобы она соответствовала стоящим перед Россией задачам. Начиная с 1740х годов Нартов непрерывно работал над изобретениями, поражающими смелостью предлагаемых им решений, которые давали большую экономическую прибыль постоянно нуждавшейся в деньгах государственной казне.
В предлагаемых изобретениях Нартов выступал не только как опытный исследователь, находящий принципиально новые теоретические решения тех или иных задач, но и как практик, предлагавший способы их претворения в жизнь, начиная от изобретения необходимых для этого «махин» и кончая точным расчетом требуемых материалов и рабочей силы. В этом подходе ощущается верность петровским традициям, не терпящим «инвенций», не поддержанных практическим применением. И не вина Нартова в том, что иногда его безусловно интересные и выгодные для государства изобретения продвигались в жизнь очень медленно. Так, подав в январе 1740 года свою «инвенцию» о сверлении «глухих» пушек, он смог произвести необходимый эксперимент по его моделям и с его инструментами только в декабре. Он остался недовольным длительностью эксперимента, который занял двое суток, и усовершенствовал «махину», с помощью которой уже брался «высверлить трехфунтовую пушку в одне сутки и скорее».
С помощью этой многофункциональной «махины» можно было не только сверлить цельные пушки, но и «легким способом их поднимать... и в центр положить, и сверху ее обтачивать и прибыли у тех пушек обтирать». Кроме того, можно было большие и малые пушки для удобства сверления устанавливать как в горизонтальном, так и в наклонном и вертикальном положениях, и все это осуществлялось без «водного и ветренаго движения». В случае же использования «водного» движения, которое Нартов считал и удобнее и «прибыточнее», одним движением можно было, по его утверждению, сверлить по две пушки одновременно, сохраняя при этом все требуемые артиллерийские нормы: точность попадания в цель, дальность полета ядра и т. п. Высверленные из стволов цельные большого веса цилиндры пускались в переплавку, и «угару» (отходов) получалось немного. Таким образом, большая часть затраченного на литье пушки металла возвращалась производству, что давало безусловную экономию.
Понимая значение своего изобретения, Нартов просил «принять новоизобретенную его инвенцию во славу российской империи, понеже еще нигде не имелось оной инвенции». Остается только удивляться тому, что, имея в руках уже опробованное в практике, удобное в работе и выгодное русское изобретение, правительство за невероятно большие суммы пригласило из Швейцарии, а затем и из Швеции специалистов с целью налаживания в России сверления цельных пушек.
Нетребовательное отношение к заграничным авторитетам на этот раз стоило государственной казне очень дорого: сделанные швейцарцем Гонзетом пушки оказались негодными и привели к немалому убытку, а из «пробы» приглашенных из Швеции полковника Вертгорта и капитана Штерка «ничего за действительной опробации не явилось». Однако указ Сената об их несостоятельности был издан только в 1751 году.
Одновременно с «Доношением» о сверлении цельных пушек Нартов подал перечень «нужнейших впредь махин и механических инструментов, которые могут явиться полезны ко оной артиллерии». В нем перечислено двадцать пунктов. Каждый из них представляет собой весомый вклад в технологию формовки и литья пушек и мортир, способов их перемещения из ямы к станкам, а также в решение конструкций станков. Среди них наибольший интерес представляла «махина железные и медные винты винтовать, инструменты для заточки инструментов». В этом перечне наиболее значительными были три изобретения: «у пушек и мортир внутри калибра раковины зачинивать», новая «батарея скорострельная на пушечном станке» и предложение «и с пушки, из мортир и из мелкого ружья вне калибера ядрами стрелять».
Такое количество важных для государства военных изобретений не могло остаться незамеченным: как известно, в апреле 1741 года вышел указ о пожаловании Нартову «за его искусство» чина коллежского советника.
Способ заделки раковин в канале ствола получил признание не только в России, которая благодаря этому сберегла неисчислимое количество металла, но и во всем мире. Проверка того, что предложенный Нартовым способ эффективен и раковины после заделки выдерживают многократную стрельбу, была проведена в 1742 году. Значение этого эксперимента трудно переоценить. Дело в том, что пушки, мортиры и гаубицы, в стволах которых обнаруживались раковины, переливались заново. Государство
от этой операции терпело большие убытки: переливка двухсотпудовой пушки обходилась в 400 рублей. Предложенный Нартовым способ заделки раковин давал невиданную экономию. Ту же пушку, имеющую в стволе 60 раковин, можно было за две недели, не переливая, сделать пригодной для стрельбы, истратив на это всего 6 рублей. «Зачинив» в 1748 году 364 пушки, Нартов сэкономил более 60 тысяч рублей!
Что касается «батареи скорострельной на пушечном станке», то в настоящее время среди экспонатов Военноисторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Ленинграде находится изобретенная Нартовым батарея из сорока трехфунтовых мортирок. Они связаны друг с другом пороховой дорожкой и размещены по группам на большом деревянном круге, который опирается на пушечный лафет с укрепленным на нем винтом. С помощью этого винта можно было менять угол наклона «колеса». Огонь вели последовательно все группы мортирок, поворачиваемых с помощью круга на место отстрелявших, которые можно было заменить на заряженные. Сам Нартов считал, что «полезность» батареи будет состоять в том, что она «против неприятельского фрунта может бросать гранаты в расширность линей». Использование этой батареи в бою требовало быстрого и четкого обслуживания. Но, оставшись немеханизированной, она не нашла себе применения в русской армии.
Зато стрельба из пушек, мортир и из мелкого ружья «вне калибера», большими ядрами была опробована на полигоне и заслужила похвалу комиссии, записавшей, что «такой новоизданной огненной инвенции не слыхано ни в России ни в других государствах». Действительно, возможность при несвоевременной доставке боеприпасов использовать, например, для трехфунтовой пушки шестифунтовые гранаты создавала безусловные удобства.
В том же 1742 году в Арсенале «Нартовым усмотрено к пушечной пальбе заготовленные чугунные разных калибров ядра с гребнями и шишками, которыя не толко к стрелянию из пушек неспособны, но еще тем пушкам веема вредителны...». Вскоре изобретенный Нартовым способ обточки чугунных ядер, бомб и гранат, имеющих гребни и шишки (то есть существенные неровности их поверхности) был столь эффективен, что получил распространение во всех городах России, имеющих арсеналы.
Нартова по совокупности его изобретений в области артиллерии и по той энергии, с которой он добивался их осуществления, можно считать фактическим руководителем Пушкарского двора. Он подходил к практическому применению своих изобретений с размахом и широтой истинно государственного деятеля: собирал данные о том, сколько пушек, гаубиц и мортир, не пригодных изза наличия в них раковин, находится не только в пушечных дворах и арсеналах Петербурга, но и в других крепостях русского государства — в Москве, Выборге, Белгороде, Кронштадте — и во всех адмиралтействах.
Он требовал повсеместного учета ядер, что в масштабе всей страны было просто неосуществимо: он запрашивал данные не только от арсеналов и пушечных дворов, но и от всех военных кораблей. Эти требования Нартов мотивировал необходимостью знать, какое количество материалов и денежных средств понадобится для заделки раковин и обточки ядер от «шишек и гребней», от которых в «калиберах великое повреждение делается» — появляются борозды, мешающие «летанию ядра».
Далеко не все арсеналы, крепости и порты отвечали на его требования. Считали по усредненным показателям. Так, например, в Петербургском арсенале велено было разобрать одну пирамиду с ядрами. Их оказалось 116 172! Из них освидетельствовали 25 150 штук, а годными для стрельбы признали всего 879. По этим цифрам можно судить о том, сколь своевременным было изобретение Нартова.
Первоначально Нартов предполагал, что четверо обученных им мастеровых, из которых главным был «ученый и удостоенный» пушечный мастер Степан Копьев, смогут справиться с ремонтом ядер, работая не только в Петербурге, но и выезжая на места. Однако им это оказалось не под силу. Тогда Адмиралтействколлегия по его просьбе направила ему еще несколько учеников.
Работы производились в условиях полной секретности, в специально построенных для этого зданиях, у входа в которые «с примкнутым штыком» стояли часовые. Сам Нартов все материалы, имеющие отношение к военному ведомству, держал у себя дома в специальной закрытой «каморке», никому не доверяя в Академии наук их хранение. Необходимые компоненты для «сочиненной химической материи», с помощью которой производилась заделка раковин, покупал С. Копьев на деньги, выданные Нартову под отчет по распоряжению Сената. Беспокоясь за сохранение секрета «химической материи», Нартов потребовал от Военной коллегии ответа, на каком основании было дано указание писать в «шнурованную книгу» секретные химические и механические «вещи», изза чего они «не токмо посторонним лицам, но и в других государствах могут быть открыты».
Благодаря всем этим мерам использованный Нартовым секрет зачинки раковин до сих пор не известен. Ясно только, что применялось запаивание составом, рецепт которого не открыт, и, кроме того, использовались какието механические средства, с помощью которых производилось исследование ствола и, возможно, рассверливание раковин с последующей их заделкой.
Ни один из обученных Нартовым и Степаном Копьевым русских мастеровых не выдал порученного им секретного дела, а знали его девять человек в Петербурге и шестеро — в Москве. Это Степан Копьев, Прохор Семенов, Степан Окулов, Петр Федоров, Семен Жариков, Павел Шапошников, Никита Космачев, Антон Калистратов, Петр
Подъемщиков, Иван Дмитриев, Петр Соловьев, Иван Шестаков, Иван Иванов, Иван Колотилин и Осип Сосин. Каждому из них Нартов выхлопотал в Сенате повышение з чине и увеличение жалованья, «чтобы они против артиллерийских мастеровых имели отмену и для того впредь наилутчее в трудах своих прилежание имели». Сам Нартов в 1746 году именным указом был награжден 5 тысячами рублями. Также был подтвержден его оклад в 1200 рублей, и, кроме того, «за усовершенствования в пушечном деле» ему были даны в вечное владение «отписные деревни... в Новгородском уезде в разных пятинах, в усадищах Крючкове и других з деревнями и пустошами и со всеми к ним принадлежностями, в которых мужска полу сто пятьдесят три души».
Значительно меньше времени, чем Военной коллегии, Нартов уделял работе в Адмиралтействколлегии, хотя и там выполнял очень ответственные задания по строительству Кронштадтских доков и шлюзов.
Сотрудничество Нартова с Адмиралтейской коллегией началось по приезде его из Москвы еще в 1712 году. Он помогал токарям Адмиралтейских мастерских налаживать токарные станки, а позднее, став во главе Инструментальной палаты Академии наук, часто помогал им в изготовлении сложных мореходных инструментов, посылая для работы над ними своих мастеров.
Нартов неоднократно приезжал в Кронштадт на строительство канала. Заложив 16 мая 1703 года крепость и город СанктПетербург, Петр I решил их оградить с моря, для чего уже через год на острове Котлин, в 27 километрах от Петербурга, было начато строительство крепости и совсем близко от острова среди вод поднялась на деревянном основании башня высотой 36 метров, имевшая смотровую площадку с флагштоком, на котором поднимали государственный и сигнальные флаги. Она и получила название Кроншлот. Сохранился любопытный указ Петра I, изданный 12 мая 1704 года, в котором сказано, чтоб «никто новопостроенную крепость каланчею или ситаделью не называли, а называли бы Кроншлот».
Интенсивное строительство на Котлине началось с осени 1709 года. Но уже к моменту приезда Нартова в 1712 году в Петербург заканчивалось сооружение первой из всего комплекса проектируемых гаваней. И только через девять лет были завершены работы на последней, четвертой, Военной гавани. Так что запись Нартова о том, что Петр I «показывал мне чертеж нового укрепления Кронштадта», может относиться и к 1723 году, тем более что до той поры крепость и город назывались Кроншлот.
Канал, над чертежом которого Нартов часто засиживался до ночи в Летнем дворце, был основной осью композиции крепости, проект которой Петр I утвердил только в 1721 году. Но еще за два года до этого его указом «было велено Канальное дело начать делать... и начать делать от берега морскова до доков и доки также и стороны в канале обделывать».
Строительство канала началось в 1719 году, но его торжественное открытие, на котором присутствовала Елизавета Петровна, состоялось в 1752 году, и в честь Петра I канал получил название Петровский. Во время церемонии открытия «в док основного канала чрез отворение шлюзных ворот» было введено десять судов.
Канал был задуман как «рабочая» часть Кронштадтской крепости. Он был главным элементом гидротехнической системы, равной которой в Европе того времени не было. Суда по нему вводились в доки, где их ремонтировали. В конце канала они могли выйти в море. Здесь должна была находиться башнямаяк, проект которой разрабатывали архитекторы И. Браунштейн и Н. Микетти. Под ней в сентябре 1724 года «было велено сделать шлюз». Русский историк и археограф И. Голиков во второй половине XVIII века писал: «Петр Великий намерен был, наподобие древних Колосса и Фороса сделать высокую башню каменную, в такой мере, чтоб в ворота ее проходили корабли с мачтами... и на шпице б в ночное время фонарь с великим светом зажжен был которой башни и рисунок был сделан».
Еще при жизни Петра I под башню подвели фундамент, но на этом ее строительство и закончилось, а вместо этого в устье канала «по остовую и вестовую стороны до впуску еще в оной воды... сделаны две деревянные перемиды, которыя от долговременного построения немало обветшали, а особливо на оных краска и золотыя литеры несколько почернели и полиняли».
Нартов привлекался к работам, имевшим отношение к каналу, неоднократно. Можно не сомневаться, что он сопровождал Петра I во время его посещений Кронштадта. На его глазах строился не только канал, но и город, первоначально деревянный, а затем и с каменными зданиями. Строители жили и работали в страшных условиях, постоянно голодные, на открытом ветру и в воде. Это были и солдаты, и вольнонаемные, и работные люди, присылаемые со всех сторон России, и даже каторжники. Любая механизация тяжелого труда землекопов, плотников, ворочавших огромные бревна, и каменщиков могла облегчить их работу и жизнь. Возможно, именно об этом думал Нартов, когда создавал различные механизмы «как бы легче и прямее колоть и пилить камень, которым канал устилаться долженствовал».
Но самыми ответственными, сложными и поистине уникальными были разработанные им в чертежах, в модели, а затем и построенные по его «инвенции» конструкции опорных частей шлюзных ворот доков. В своей автобиографии он об этом писал: «В 747м году по указу правительствующего Сената будучи я при присутствии господ сенаторов при его превосходительстве генерале и кавалере Александре Борисовиче Бутурлине и при присутствии его сиятельства тайном советнике и кавалере князе Иване Васильевиче Одуевском и при прочих членах и мастерах при Кронштадтском канале, у рассмотрения лесов и камней, и между оным усмотрено мною к пусканию в большой канал воды, надлежит к слюзным воротам сделать пятники и подпятники (опорные части шлюзных ворот.— М. Г.) по учиненным от меня прожектам, и были представлены к лучшему рассмотрению в правительствующий Сенат, которые рассмотрев, повелено было, по присланному ко мне из правительствующего Сената указу, велено, где надлежит за присмотром моим и по показанным от меня моделям делать; которые и сделаны и утверждены ныне к тем слюзным воротам».
Эти слова Нартова подтверждаются представленным в Сенат журналом сенатора генерала Бутурлина и князя Одуевского, командированных в Кронштадт «для посмотрения всего Кронштадтского канала и шлюзов, яко важнейшего государственного строения». В этом донесении было 14 пунктов, в одном из них сказано о необходимости «изготовления, по моделям советника Нартова, пятников и подпятников для укрепления шлюзов».
Знакомясь с объемом и характером работ Нартова в период с 1740го по 1756 год в Канцелярии Главной артиллерии и фортификации и в Адмиралтействколлегии, трудно представить себе, что он мог найти время для какихлибо иных дел. Но его трудолюбие было поистине необыкновенным. Ведь именно в эти годы он пытался завершить работы по Триумфальному столпу, заканчивал труд «Театрум махинарум» и, кроме того, разработал проект Катальной горы в Царском Селе.
"На горе сделать каменную гору..."
Судьбе было угодно, чтобы в конце 40х годов Нартов оказался причастным к строительству сооружения, имевшего сугубо увеселительное назначение и предназначенного для развлечения узкого придворного круга. Ему поручили проектирование Катальной, или, как ее называли в документах того времени, Катательной, горы, в Царском Селе.
Впоследствии она стала одной из красивейших построек этого замечательного дворцового ансамбля, над созданием которого трудились выдающиеся архитекторы и мастера садовопаркового искусства. Недаром еще М. В. Ломоносов писал:
Как если зданием прекрасным Умножить должно звезд число,
Созвездием являться ясным Достойно Сарское село.
Труды многочисленных работных людей постепенно превратили Царское Село в прекраснейшее место отдыха и развлечений. Самым любимым из них было катание с искусственных гор, сделавших это исконно народное увеселение достоянием двора и его приближенных.
Работа Нартова над Катальной горой началась в декабре 1745 года с «изустного» приказания Елизаветы Петровны, которым механику Нартову «велено было сделать тектор, стремящийся связать сооружение с окружающим ландшафтом.
Центром композиции в проекте Нартова служил Грот. Судя по перечню чертежей, он подробно разработал его облик, и Грот изображен «со всеми к ним принадлежностями и протчими украшениями и великолепно архитектуру объявляет». В центральном павильоне Грота, поднятого на высокое основание, помещались увеселительные палаты с архитектурными орнаментами, а справа и слева от него — две «цыркульные башни», от которых и начинались «катательные увеселительные горы»: одна зимняя, другая летняя.
Безопасность скольжения колясок по своеобразным полосамрельсам обеспечивалась расположенными в двух плоскостях медными роликами, укрепленными на железных осях с двух сторон нижней части колясок и специальными стенкамиконтрафорсами, сооруженными с обеих сторон скатов. Нартов подробно разработал и декоративное оформление колясок. На их спинках помещалась императорская корона и под ней — монограмма. По углам спинки стояли «два императорские орла под коронами», на боковых поверхностях были изображены военные арматуры и различные украшения, спереди — «поставленный в нептуновой раковине летящий крокодил», бывший в то время символом благополучия.
Есть все основания полагать, что архитектурное решение центрального павильона Катальной горы было навеяно Гротом, построенным в Летнем саду в Петербурге. Завершая его отделку в 1719 году, архитектор М. Земцов оставил фиксационные чертежи Грота, снабженные подробными описаниями. По ним можно в какойто мере судить об объемнопространственном характере центрального павильона Катальной горы и его интерьерах. Грот в Летнем саду в Петербурге был отделан туфом, что создавало иллюзию естественной пещеры. Средний из трех залов, увенчанный куполом, завершался небольшим шестигранным фонарем. В туф были вделаны всевозможные раковины, камни, кусочки разноцветного стекла. Возможно, именно эти декоративные приемы использовал и Нартов, обозначив их в «Описи» словами «архитектурные арнаменты» и «протчие украшения».
Документально установлено, что выбор места для Катальной горы принадлежит тоже Нартову. От дворца по верху высокого и протяженного естественного холма шла широкая аллея, называемая сейчас Рамповой. Она давала возможность вытянуть вдоль холма оба форса, с них открывается прекрасный вид на лежащий внизу Большой пруд. Использовав рельеф холма, Нартов спроектировал лестницы, украшенные вазами. Планировка сада была регулярной, как можно судить по тому, что Нартов предлагал провести дороги «по линиям». Изготовленную Нартовым модель горы привезли в Царское Село тридцать солдат. Заказ на вагонеткиколяски выполнялся на Сестрорецких заводах, а на Олонецких заводах отлили чугунные желобарельсы.
С момента передачи проекта Нартова в Контору Царского Села им занимались архитекторы С. И. Чевакинский и Ф.Б. Растрелли, неизменно во всех документах называвшие Нартова автором. Так Чевакинский, которому было поручено «учинить смету» Катальной горы, писал, что он взял у Нартова «план, фасад в перспективе». Растрелли в 1750 году сообщал из Москвы, что он показывал чертежи императрице и та повелела «производить строения кои должны быть под горой по проекту Нартова». Это свидетельство тем более ценно, что оно исходит от самого Растрелли. Впрочем, он сам в перечне сооружений, выстроенных по его проектам в царствование Елизаветы в Царском Селе, Катальную гору не упоминает. А из писем полковника П. Н. Григорьева, которому было поручено следить за всем строительством в Царском Селе, следует, что Растрелли принадлежит архитектурное оформление нартовского проекта.
Архитектор В. И. Неелов оставил подробнейшую опись Катальной горы. Общая длина сооружения равнялась приблизительно 270 метрам, из них главный двухэтажный павильон с явно выраженным центром имел в длину около 60 метров. Восьмигранный зал его верхнего этажа был перекрыт куполом с восемью круглыми окнами. Уклон, или профиль, двух рассчитанных Нартовым скатов определил высоту первого этажа — 8 метров. По сторонам центрального зала располагались два других — обеденный и для игры.
Декоративное убранство здания действительно выдавало руку Растрелли. Неелов писал, что по верху кровли шла балюстрада, на ней вызолоченные фигуры. На куполе кроме центральной фигуры были установлены четыре резные фигуры «в знак весны, лета, осени и зимы». Остались и описания колясок: их было четыре — две одноместные и две двухместные. Каждую изнутри обили зеленым сукном, снаружи выкрасили голубой и красной красками.
Документальных свидетельств того, как Нартов относился к видоизменениям своего проекта, нет. Катальная гора, законченная в 1757 году, еще долго после его смерти была украшением Царского Села. Ее разобрали в 1777 году.
Последние годы жизни Нартова были отягощены семейной драмой, которая разыгралась изза неверности его жены. Все перипетии состоявшегося на этот раз развода подорвали его здоровье. Однако он попрежнему был увлечен работой и эпизодической, какой стала для него разработка проекта Катальной горы, и основной — в Академии наук. В 1748 году он предложил свой проект восстановления Готторпского глобуса, погибшего при пожаре в 1747 году. Он состоял в том, чтобы «вылить из пушечной меди две медные чаши» толщиной в один дюйм, «которые аккуратно и обточены быть могут так, как и действительный шар что аккуратно чрез железный меридиан сделать невозможно. И на тот, объявленный от меня медный глобус наложить белый лак и на оный лак генеральную всего света ландкарту возможно наложить же без всякого затруднения, в скором времени».
И здесь Нартов не мог не высказать своего мнения: «...ежели Канцелярия Академии наук соблаговолит действом произвесть чрез руки российския сынов отечества, из чего б могли воспоследовать слава империи Российской на весь свет, а не чрез бы руки иностранныя, наемничия, упомянутого мастера Скотта, и из того высочайшего интересу Е. И. В. воспоследует немалая прибыль».
Продолжал Нартов работу и в Канцелярии Главной артиллерии и фортификации. Так, в 1751 году он изобрел оптический прицел. Комиссия Сената в своем заключении писала: «Изыскан лее им инструмент математический с першпективною зрительною трубою с протчими к тому принадлежностьми и ватерпасом для скорого навождения против неприятеля на батареи или по показанному месту при осаде города в цель горизонтально и по олевации, но и в самой дальней дистанции вероятно ту цель и обстоятельно изъявляет по оному ево изданному математическому инструменту и справедливо без дальнего помешательства ту цель показывает».
Но особенное внимание Нартов обращал на окончание своей книги «Театрум Махинарум». Она не столь давно была обнаружена в фондах Государственного Эрмитажа и в настоящее время хранится в отделе рукописей Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. СалтыковаЩедрина в Ленинграде. Ценность этой рукописной книги состоит в том, что в ней Нартов обобщил данные о всех известных ему станках и инструментах, и прежде всего о тех, которыми пользовались в придворной Токарне, в том числе и сконструированных им самим. Нартов дал своей книге очень точное наименование, назвав ее «Театрум Махинарум», то есть «Ясное зрелище махин и преудивительных разных родов инструментов», и справедливо считал ее итогом всей своей практической деятельности.
Книгу эту Нартов задумал написать давно, очевидно еще в конце 20х годов, когда токарное искусство стало чрезвычайно распространенным увлечением. Он начал работать над ней после своего окончательного переезда из Москвы в Петербург и уже находясь на службе в Академии наук. Едва переступив ее порог, он в «Доношении», поданном 24 мая 1736 года, писал: «...имеющиеся... в лаборатории механические и математические токарных дел махины и инструмент... надлежит по мнению моему... для пользы государственной описать подробно, с их препорциями, и сделать оным махинам аккуратные чертежи с першпективами... которым уже упомянутым махинам и инструментам описание их с препорциями начато было и некоторым уже имеются чертежи сделаны, токмо за отлучностыо по именному указу в Москву, на монетные дворы, оно дело оставлено. И ежели... сочинена будет книга, со описание ем и с подлинным механическим доказательством растолкована, и чертежи с их препорциями будут сделаны, и напечатать с тех оригиналов и объявить в народ, и от того может воспоследовать в науке польза, також и прибыток государственной Академии наук». И если своими усилиями по окончанию Триумфального столпа Нартов отдавал дань историческому прошлому России, а его изобретения в области артиллерии были вызваны потребностями настоящего времени, то его книга стала подарком будущему.
Нельзя забывать, что в те времена единственным серьезным руководством по токарному делу была книга французского механика Плюмье «Художество токарное в совершенстве». Изданная в 1701 году на французском языке в Лионе, она не была широко известна, так как единственный переведенный на русский язык экземпляр находился в личной библиотеке Петра I. Кроме того, рукопись Нартова отделяет от труда Плюмье полстолетия. Вобрав в себя практический опыт минувших десятилетий, она стала значительно полнее книги Плюмье и полезнее для многих заводов, ибо Нартов включил в нее описание некоторых станков промышленного назначения.
На глазах у Нартова развивалось и ширилось металлургическое производство России, и он понимал, что ручной способ изготовления деталей для машин не в состоянии обеспечить потребности промышленности. Поэтому его намерение обобщить свои знания и опыт в создании металлорежущих станков было и своевременным и прогрессивным. К сожалению, желание Нартова «объявить книгу в народ», то есть дать в руки всем механикамстанкостроителям и токарным мастерам полноценное пособие, не было осуществлено.
Если дата начала работы Нартова над книгой «Театрум Махинарум» может быть названа лишь приблизительно, то дата ее окончания точно устанавливается по надписи на ее заглавном листе: «Сия книга, названная Театрум Махинарум сочинена тщанием и трудами Статского Советника Механической профессии Академии Наук и главной артиллерии секретной экспедиции огненнострельных операций члена Андрея Нартова 1755 года». Работу над книгой Нартов продолжал до самой смерти. Заканчивал ее и придал ей тот вид, в котором она дошла до наших дней, его средний сын — видный литератор и ученый Андрей Андреевич Нартов.
«Театрум Махинарум» Нартова представляет собой рукописную книгу в парчовом переплете. Ее формат — 528 на 362 миллиметра. Она имеет золотой обрез. В ней 104 листа, из них 24 заполнены рукописным текстом, поясняющим остальные листытаблицы. На них изображены «махины» — станки, различные инструменты для их изготовления, а также рисунки вытачиваемых на них художественных изделий. Из 75 таблиц 33 отведено станкам, занимающим в книге главное место. В ней собраны токарнокопировальные, токарные, строгальные, винторезные, зуборезные, сверлильные станки и прессы. Конструкция всех этих станков показана с максимальной точностью. Содержание книги позволяет увидеть в Нартове теоретика, умеющего кратко формулировать свои мысли и выводы.
На первом листе рукописи помещен сложный по композиции рисунок, стилистические особенности которого позволяют датировать его не позднее 60х годов XVIII века. В центре листа изображена монументальная триумфальная арка, над ней возвышается пирамида, украшенная военной арматурой. Наверху пирамиды женская фигура — традиционное аллегорическое изображение России, у ее ног — высекающий эту статую амурскульптор. По мысли составителя альбома, этот лист должен был украшать книгу и удостоверять ее принадлежность.
После заглавного листа с наименованием книги идут две страницы, написанные, в отличие от всего остального текста, курсивом. Они представляют собой посвящение книги Екатерине II и принадлежат сыну Нартова, о чем свидетельствует его автограф в конце текста. Эти страницы, вероятно, были написаны с надеждой на то, что новая императрица покровительственно отнесется к изданию книги. Но этого, к сожалению, не случилось.
За посвящением следует «Предисловие от автора любомудрым читателям». Оно интересно тем, что отражает мысли Нартова по поводу происхождения «высоких наук», и в первую очередь механики. Предисловие начинается с риторического вопроса: «Имеет ли какое преимущество механическая наука перед другими...» И здесь же следуют слова: «В прочем могу подтвердить, что механика все прочие науки превосходит...» Другого ответа от Нартова и ждать было нельзя. Отдавая дань принятому в те времена значению для всего сущего «божественного начала», Нартов объясняет происхождения всех «высоких наук» из практических потребностей людей, «а по малу как ученые люди чрез неусыпное старание начали изобретать инструменты, машины и многие инвенции для строения различных зданиев, то с немалою пользою механические и все высокие науки процветали».
Далее в «Предисловии» наряду с другими, имеющими отношение к токарному мастерству и к Токарне фактами, Нартов описывает «многие машины с разными инструментами... каковых не токмо в России, но нигде никогда не бывало». Именно поэтому Нартов Токарню называл Лабораторией, давая понять, что, используя ее оборудование, можно решать многие производственные и научные проблемы. Любопытным местом в «Предисловии» можно считать абзац, в котором Нартов перечисляет все происходившие на его глазах в первой четверти XVIII века «полезные отечеству промыслы», то есть дела. В осуществлении почти каждого из них он принимал деятельное участие.
В первой, наиболее содержательной главе первой части книги Нартов пишет о теории и практике как о двух взаимосвязанных сторонах «человеческого понятия». «Практика показывает совершенно на деле то, о чем мы теорией доходя, понятие уже получим. Она производит в машинах движение и опытом самым теоретическую правду удостоверяет. Сюда принадлежат все механические проблемы, которые мы на деле моделями исследуем».
Не нужно удивляться совпадению этой мысли со словами Ломоносова: «Из наблюдения устанавливать теорию, через теорию исправлять наблюдение — есть лучший всех способ к изысканию правды». Нартов пришел к этой формуле самостоятельно, она была выведена им из всей его многолетней деятельности в области механики. Интересно свидетельство Нартова о построении моделей для проверки на практике теоретических положений или «механических проблем». Слова Нартова еще раз подтверждают важное значение, которое в XVIII веке придавали моделям технического оборудования.
Здесь же, в первой главе, Нартов определяет сущность «механической науки» через понятие «силы», подразумевая под этим различные виды механического движения. Он разделяет машины на простые и сложные. Давая определение сложным машинам, он пишет, что они «составля
ются из собрания некоторого числа простых машин». Это же наблюдение высказал значительно позднее Карл Маркс, отмечая, что на раннем этапе машина «представляет собой комбинацию многих простых инструментов».
Вторая глава первой части посвящена технологии изготовления отдельных деталей токарных станков. В третьей главе описывается, «что надлежит примечать около литейного и столярного искусства». В ней Нартов относительно подробно касается технических способов изготовления бронзовых копиров с барельефов, сделанных на пластинах из красной меди: модели выполняли из чистой глины или из красного воска, вычеканивали из тонкой меди, вырезали или вытачивали из дерева. Затем модельобразец заформовывалась специальной «микстурной» глиной, сушилась и после разъема форма вынималась. На ней получался негативный отпечаток модели. Форма скреплялась железными связями и ставилась для просушки «против литейной печи». А когда она совершенно высыхала, в нее наливался расплавленный металл. После его затвердения форму разбивали, а вынутые «вылитые фигуры» в зависимости от чистоты их поверхности расчищали чеканкой, оттачивали резцами или «острыми пилами обтирали». Окончательная отделка готового копира состояла в его полировке разными составами и наведении на него «светлого лица». Так были сделаны и копиры Триумфального столпа.
Данные Нартовым в этой главе рекомендации, касающиеся столярного искусства, сводились к характеристике пород дерева, используемых при изготовлении «машинных пьедесталов», или станин, и к советам об их украшении рельефными, или, как тогда называли, «обронными» фигурами.
В следующих пяти частях книги «Театрум Махинарум» Нартов дает представление о 28 станках, из которых 22 относятся к группе токарнокопировальных. 23 главы пояснительного к ним текста написаны настолько подробно и понятно, что, несмотря на очевидное различие технических терминов XVIII и XX веков, выдержки из них приводятся в современной специальной литературе почти без изменений.
Вряд ли целесообразно приводить здесь наименования всех видов станков, представленных в рукописи. Достаточно сказать, что Нартов дал сведения о всех известных ему токарнокопировальных станках. К сожалению, этого нельзя сказать об изобретенных им станках промышленного назначения: они представлены лишь несколькими примерами. Очевидно, он просто не успел закончить этот раздел книги.
В шестой части книги, названной «О винтовальных машинах, имеющих различные свойства при нарезывании всякого рода винтов и шурупов», тщательно и документально точно представлены токарновинторезные станки. За ними следует группа инструментов, используемых в то время при вычерчивании и строительстве всех моделей и станков.
Текст книги хорошо иллюстрируется чертежами и рисунками. Оснащенные буквенными обозначениями и построенные в перспективном сокращении, эти чертежииллюстрации позволяют проследить все механические действия машины и в этом смысле равнозначны тексту.
Эти иллюстрации выполнили ученики Нартова Петр Ермолаев и Михаил Семенов. По словам Нартова, они были при нем «всегда, как при науке, так и при всяких случившихся к работам по рисованию в чертежах безотлучно». Вернувшись в 1733 году из Москвы несколько ранее, чем Нартов, они вместе с другими мастерами придворной Токарни были переведены в Академию наук. Здесь в ожидании окончательного перевода туда Нартова Ермолаев и Семенов занимались графической фиксацией приборов и инструментов, о чем «явствуют в куншткамере рисованные их с першпективами чертежи с данных им от Академии де сианс глобусов и протчих механических инструментов». Для этой работы каждому из них были выданы «трехко
ленные циркули с прибавкой, две параллельные раздвижные линейки, два транспортира с наугольниками, две трубки карандашные медные».
Значительно более сложным для них оказалось иллюстрирование книги. В помощь им Нартов специально выписал книги «Геометрия, тригонометрия и плоская навигация на российском языке» и «Краткое руководство к познанию простых и сложных машин» Г. В. Крафта.
Ермолаев и Семенов занимались исполнением чертежей тринадцать лет, проделав, очевидно, большую подготовительную работу. Столь большой срок легко объяснить. Не чувствуя со стороны двора заинтересованности в создании Триумфального столпа, Академия наук то и дело прерывала их обучение, нагружая все новыми обязанностями. Долгое время Семенов был ответствен за выдачу материалов мастерам лаборатории, Ермолаев был копиистом, то есть вел делопроизводство. Кроме того, после пожара 1747 года они много времени отдавали ремонту и налаживанию спасенных «токарных махин».
И тем не менее в 1749 году Академия художеств «освидетельствовала сделанные нартовскими учениками чертежи механических и токарных махин» и нашла, что они «по своему искусству находятся в теории и черчении изрядно».
Однако на этом работа над созданием книги «Театрум Махинарум» не окончилась. Нартов постоянно находил все новые и новые недоделки, привлекая Семенова и Ермолаева то к написанию цифровых обозначений на чертежах, то к внесению в связи с этим поправок в их описание. И все еще оставался неудовлетворенным.
Большинство чертежей и рисунков станков в книге Нартова выполнены безукоризненно не только с точки зрения достоверности изображенного. Им придан весьма привлекательный вид за счет многочисленных декоративных форм. Особенно это относится к торцам, к боковым плоскостям станин, к рисунку их оснований. В одних случаях торцы сплошь закрыты орнаментальным декором, в других — они окаймлены пышными гирляндами, в третьих — верхняя плита станины удерживается на архитектурно выразительных опорах в виде столбов, пилястр, арок. Ни в одном станке не повторяются украшающие их мотивы, но всем им свойствен единый барочный стиль. Не надо забывать, что книга предназначалась в подарок императрице. На самом же деле, если судить по имеющимся в эрмитажной коллекции станкам, они не украшены, как на рисунках, витиеватыми и сложными элементами, хотя и отмечены безусловной художественной выразительностью. Основным авторомхудожником, разработавшим художественный облик чертежей в книге Нартова, был, скорее всего, Ермолаев. Есть документальные сведения о том, что он в отсутствие Нартова направлялся «для рисования» в Географический департамент и одно время числился учеником Рисовальной палаты. О Семенове таких данных нет, хотя в отдельных подписанных им чертежах, хранящихся в отделе русской культуры Государственного Эрмитажа, тоже чувствуется рука человека, не чуждого умения рисовать.
Если причастность Петра Ермолаева и Михаила Семенова к чертежам неоспорима и легко доказывается документально, то значительно сложнее определить автора четырех таблиц, на которых в прекрасном графическом исполнении отдельно показаны части ствола Триумфального столпа и венчающая его статуя стоящего во весь рост Петра I.
Столп представляет собой колонну дорического ордера, причем построение базы, капители и стоящего на ней антаблемента, как и постепенное сужение самой колонны кверху, выдают руку опытного архитекторарисовалыцика. Ему же, безусловно, принадлежит и изысканнотонкий рисунок восьми барельефов, надписи над которыми поясняют их содержание, идентичное представленным на пластинах или моделях из красной меди, по которым Нартов в 20х годах выполнил копиры. Барельефы на столпе расположены в той же последовательности, что и на эскизном проекте Нартова, только здесь еще присутствует тема взятия Дербента. Некоторое различие между ними состоит в том, что тексты надписей на чертеже значительно сокращены.
Обращает на себя внимание и начертание надписей, в которых наряду с русскими и латинскими буквами есть буквы, написанные славянским шрифтом. Это затрудняет определение автора чертежа, которым мог быть или русский художник, владеющий иностранным языком, или иностранец, постигший древнюю азбуку. Если отвлечься от этого факта и искать автора по стилистическим качествам великолепного рисунка барельефов, то можно было бы назвать Растрелли, хотя документальных данных пока не обнаружено, и, кроме того, до нас дошло написанное Нартовым отрицание того, что «великий образец Триумфального столпа» был сделан Растрелли.
Однако совершенно очевидно, что фигуру Петра I, увенчавшую колонну, изображал не автор чертежа, а другой художник. Это становится очевидным при их стилистическом сравнении и при сопоставлении манеры их исполнения. Можно согласиться с суждениями о том, что проект статуи принадлежит скульпторудекоратору и архитектору Н. Пино. Использованные мотивы львиных масок часто встречаются в его работах, в том числе и в хранящемся в Музее декоративного искусства в Париже акварельном рисунке «пьедестала для статуи Петра Великого».
Остается сказать, что сын Нартова знал о желании отца включить изображение Триумфального столпа в книгу, о чем есть достоверное свидетельство. Осталось доношение Нартова, написанное им в феврале 1751 года, в котором он прямо говорит, что после окончания Триумфального столпа и завершения «сочиненным ему чертежам он присовокуплен будет к сочиненной книге токарным и курьезным документам». Переплетая книгу, сын Нартова сделал это, соединив в одну композицию два произведения — рисунок Н. Пино и Триумфальный столп. Для того чтобы он соответствовал размеру книги, чертеж пришлось разрезать на три части.
За таблицами с изображением Триумфального столпа в книге следуют еще четыре. На двух из них нанесены двенадцать превосходно выполненных круглых по форме миниатюр, на которых изображены «баталии». По сюжету, композиции, надписям и датам они абсолютно идентичны находящимся в Эрмитаже нартовским медальонам. Исполнены миниатюры одним из лучших граверов первой половины XVIII века Иваном Соколовым.
Завершают «Театрум Махинарум» 24 таблицы, на которых нарисованы инструменты, декоративные предметы и научные приборы, каждый из которых представляет собой уникальное произведение токарного мастерства и декоративного искусства. Здесь наряду с кубками, колонками и пирамидами представлены глобусы, астролябии на треножниках, солнечные часы и другие распространенные в то время в научном обиходе предметы.
Значение книги трудно переоценить. Если бы, как и предполагал Нартов, она была «объявлена в народ», то стала бы неоценимым помощником многих и многих мастеровстанкостроителей. Не его вина в том, что этого не произошло. Но сейчас, спустя два столетия, она не утратила своего научного и художественного значения. В ней содержатся данные, не встречающиеся у других авторов, в том числе и у Плюмье. Перечисление всех изобретений Нартова вряд ли целесообразно. Их очень много. Отметим лишь главные: для дальнейшего развития станкостроения чрезвычайно существенно было перенесение механического суппорта из области токарнокопировальных станков, предназначенных для изготовления художественных изделий, в станки производственного назначения. Уникальны были и его токарновинторезные станки, в особенности тот, который имел сменные шестерни и был предназначен для нарезания крупных ходовых винтов прессов. Нартовым были изобретены и зуборезнофрезерные станки для изготовления зубчатых колес любых машин и механизмов, и впервые предложено фрезерование поверхности грибовидной фрезой, и многое, многое другое.
По книге Нартова «Театрум Махинарум» можно судить об уровне техники и технологии станкостроения первой половины XVIII века, об оборудовании и мастерстве токареймашиностроителей и токарейхудожников придворной Токарни.
В 50х годах здоровье Нартова серьезно пошатнулось. Он часто и подолгу лежал в «гошпитале», за что из его жалованья высчитывали по одной копейке с рубля. В 1754 году его часто пользовал лекарь «галерного» флота. Причин для нездоровья у Нартова хватало. Шумахер продолжал его притеснять. То без всякой причины лишил его в 1743 году академической квартиры на 3й линии Васильевского острова, «вблизи от реки», то, несмотря на высокое служебное положение Нартова, коллежского советника, сообщил ему, что он от своей Экспедиции уволен и мастеровых людей своих должен отдать Скотту, англичанину, работавшему ранее в Адмиралтейских мастерских «компасных дел мастером».
Правда, служебные неприятности Нартов умел преодолевать обращениями в Сенат, который отдавал должное его заслугам и ставил все на место. Немудрено, однако, что начиная с 50х годов в написанных Нартовым документах все чаще проскальзывают грустные нотки. В одном он пишет, что здоровье не позволяет ему самому закончить вытачивание Триумфального столпа, в другом — что хотел бы обучить еще нескольких учеников для артиллерийского дела...
Тем не менее в 1753 году Нартов открыл в своем собственном доме первую в Петербурге Механическую школу «аусцалмейстерской должности». Дом был им куплен на 10й линии Васильевского острова, невдалеке от Большого проспекта, после присвоения ему чина коллежского советника. На плане девяти частей Петербурга 1798 года этот дом, обозначенный под номером 113, по описанию принадлежал действительному статскому советнику Андрею Андреевичу Нартову. Сын Нартова, ставший видным ученым и литератором, имел в конце XVIII века этот чин.
Первыми учениками Нартова были Инженерного корпуса кондукторы Филипп Баранов, Алексей Зеленое и ученик Степан Пустошкин. Он им читал «механические лекции» и учил «практике и сочинению чертежей». В 1754 году к нему поступили еще двое кондукторов — Кондратий Роднев и Алексей Бровцын.
Несколько позже генералфельдцейхмейстер П. И. Шувалов послал «Доношение» в Сенат, в котором писал, что «они... обучались механической науке, також перспективе и чертежам механическим; притом начертили книгу, именуемую Театрум Махинариум...». Последняя фраза в какойто мере объясняет неравноценность графического исполнения чертежей книги, отдельные листы которой выполнены менее профессионально. Возможно, что таблицы с изображением инструментов были выполнены этими учениками, как и несколько листов с токарнокопировальными станками.
Среди учеников, присланных в школу, Нартов, должно быть, не нашел достаточно одаренных людей, которым мог бы передать свои незавершенные дела и замыслы. Поэтому он обратился в Сенат с просьбой прикомандировать к нему своего среднего сына Андрея, закончившего к этому времени «студентский класс в кадецком корпусе». Ему было в то время семнадцать лет.
Желание Нартова иметь около себя любимого и способного сына имеет еще одно немаловажное объяснение. Обстановка в доме на 10й линии оставалась тягостной и после развода. Постоянные визиты без ведома Нартова «фузелера осадной артиллерии Данилы Горемыкина» были неприятны для хозяина дома. Он беспокоился о том, какое это влияние может оказать на его детей: с ним жи
ли четыре дочери от второго брака — Мария, Прасковья, Екатерина, Елизавета — и младший сын Яков. Старшей, Марии, в это время было шестнадцать лет. Дети от первого брака — сын Степан и две дочери — Анна и Пелагея — жили в Москве у сестры Нартова.
Кроме того, Нартов находился в постоянном беспокойстве о том, как бы приходящие к его жене люди не похитили «находящиеся в сохранении в... горнице... касающегося до секретного искусства инвенций, о которых объявлять не велено под криминалом не токмо мне, но и внутри государства... и не подкуплены ли кем из иностранных людей... понеже таковых еще никогда прежде в России и во всем целом свете не бывало». Хотя не исключено, что в создавшейся атмосфере недоброжелательства был, очевидно, повинен и Нартов, нетерпимо относившийся к жене. Развод был оформлен в феврале 1755 года, а 14 мая 1756 года в Канцелярию Академии наук поступило «Доношение» от армии поручика Андрея Андреевича Нартова о том, что Андрей Константинович Нартов умер «сего апреля 16 дня».
Начав свою жизнь в Петербурге с «чужей» квартиры, Нартов, достигший к концу жизни чина статского советника, «имел собственность». В объявлении, напечатанном в «СанктПетербургских ведомостях» его сыновьями, сообщалось, что продается дворовое место на Адмиралтейской стороне, «недалеко от Семеновских светлиц», и на Васильевском острове, на 10й линии, «двор со всем хоромным строением». Кроме того, продавались две небольшие деревни в Брянском и Гдовском уездах, где было в общей сложности 60 человек крепостных, дача, или «мыза», на Выборгской стороне (предположительно — Жерновка), двухместная карета с парой вороных лошадей.
Несмотря на кажущееся благосостояние, Нартов был обременен большими долгами, и семья после его смерти оказалась в затруднительном положении. Как можно судить по «Русской родословной книге», старший и младший сыновья служили в армии. Средний сын Андрей, как уже говорилось, стал впоследствии видным деятелем русской культуры.
Дочери Нартова смогли, однако, выйти замуж за состоятельных людей: их энергичный брат, несмотря на свой молодой возраст, выхлопотал от правительства большую сумму денег, около 20 тысяч рублей, «за оказанные помянутым Статским Советником Нартовым в пользу и приращения высокого в. и. в. интересу по инвенциям ево труды и немалые заслуги...».
Реликвии, имевшие отношение к Нартову, тщательно оберегались много лет его потомками в имении правнука Нартова — Александра Нартова — в Волынской губернии, но, к сожалению, были разграблены петлюровцами и бесследно пропали. Правда, случайно сохранившиеся у одного из коллекционеров жалованные грамоты, патенты на чины и ордена Нартова в 1941 году, перед Великой Отечественной войной, были переданы в архив Академии наук его сыном, доктором исторических наук П. А. Раппопортом. Таким образом, жизненный круг этих документов замкнулся. Полученные А. КНартовым в Петербургской Академии наук, они через двести лет вернулись в Ленинградское отделение Архива Академии наук СССР.
В Государственном Историческом музее в Москве хранится портрет Андрея Константиновича Нартова, написанный маслом буквально за несколько дней до его смерти. Художник сосредоточил свое внимание на лице. На портрете изображен умный, волевой, но болезненного вида человек. На нем серый кафтан, серый с небольшими буклями парик, белый шейный платок. Художник не стремился подчеркнуть достаточно высокое социальное положение Нартова (чин статского советника приравнивался к чину пятого класса). В штатской жизни он мог занять место вицедиректора департамента или вицегубернатора и обращаться к нему нужно было — «Ваше высокоблагородие».
Около 230 лет тому назад окончился жизненный путь Андрея Константиновича Нартова. Его похоронили в ограде церкви Благовещения на Васильевском острове. И только в 1950 году при строительных работах была обнаружена надгробная плита. В настоящее время в Музее городской скульптуры в АлександроНевской лавре рядом с памятником М. В. Ломоносову стоит надгробие А К. Нартову. На нем высечена надпись: «Здесь погребено тело Статского Советника Андрея Константиновича Нартова служившего с честию Петру Первому Екатерине Первой Петру Второму Анне Иоанновне Елисавете Петровне и оказавшему отечеству многия и важные услуги по различным Государственным департаментам родившегося в Москве в 1680 году марта 28 дня скончавшегося в Петербурге в 1756 году апреля 6 дня».
Вкравшиеся в надпись неточности в датах свидетельствуют о том, что плита была высечена значительно позднее, а может быть, и просто небрежно, как это в ту пору часто встречалось.
Хотелось бы добавить, что все оказываемые Андреем Константиновичем Нартовым «отечеству многие и важные услуги» он делал, как он сам любил говорить, «к высокой славе и пользе отечества своего».
См. также Нартов в Петербурге (М.Э. Гизе) (часть 1)
Всего комментариев 0








