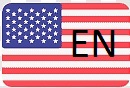На развилке дорог (Так была ли альтернатива 1929 году?)
На развилке дорог (Так была ли альтернатива 1929 году?)
Владимир Попов, Николай Шмелев
Все началось с регулирования цен
Наверное, это многим покажется парадоксальным, но мы убеждены: конец нэпа начался не с решений 1929 года. Он начался в недрах самого нэпа. С одного из важных элементов его экономического механизма — с регулирования цен. Играя в основном служебную, вспомогательную, но в целом положительную роль в период нэпа, этот элемент во второй половине 20-х годов сначала исподволь, а потом вдруг приобрел решающее значение и лег в основу всей командно-административной системы, пришедшей на смену социалистическому рыночному хозяйству.
Переход от «военного коммунизма» к нэпу в 1921 году сопровождался внедрением рыночных, свободно колеблющихся в зависимости от спроса и предложения цен. В сельском хозяйстве крестьяне получили возможность продавать хлеб по ценам базарной торговли, в промышленности формировавшиеся тресты и синдикаты, равно как и частный сектор, и кооперативы, стали устанавливать цены самостоятельно, в зависимости от рыночной конъюнктуры. Созданные в 1921 — 1922 годах Комитет цен при Наркомате финансов и Комиссия внутренней торговли при Совете Труда и Обороны практически не занимались прямым нормированием (планированием) цен: устанавливаемые цены были в основном ориентировочными и до декабря 1923 года охватывали только базисные товары. Однако механизм рыночного ценообразования, на который была сделана ставка, не сработал в полной мере, привел к возникновению крупных ценовых неувязок, что в конце концов вынудило государство
Важнейшей диспропорцией стал опережающий рост цен на промышленные товары в сравнении с ценами на сельскохозяйственные — так называемые «ножницы цен». Начиная с 1913 года возрастали цены всех товаров — и промышленных, и сельскохозяйственных, причем с 1917 года такой рост резко ускорился. Но при этом более или менее выдерживалась главная обменная пропорция — к 1922 году цены промышленных товаров выросли только в 1,2 раза больше, чем цены сельскохозяйственных. Это, кстати сказать, было вполне объяснимо, ибо промышленность была разрушена сильнее, чем основанное на рутинной технике сельское хозяйство. С конца 1922 года картина в корне меняется: цены промышленных изделий постоянно обгоняют в своем росте цены сельскохозяйственных, так что к осени 1923 года «раствор» ножниц цен достигает уже более 300 процентов или, другими словами, относительная дороговизна промтоваров в сравнении с сельскохозяйственным сырьем возрастает против 1913 года больше чем в 3 раза Чтобы купить плуг в 1913 году, хватало 10 пудов ржи, в 1923 — требовалось 36.
Тогдашние и современные исследователи «ножниц цен» в 1923 году называют в качестве причин их образования многие факторы, в частности, более медленное восстановление производительности труда в промышленности, острую нехватку промышленных товаров, кредитование городской промышленности через выпуск червонцев, почти не поступавших в деревню, и др. Представляется, однако, что решающую роль сыграл здесь все-таки другой фактор, слабо изученный тогда экономической наукой, но приобретавший все возрастающее значение в хозяйственном развитии стран Запада и в полной мере проявивший себя в Советской республике в первые годы
Речь идет о закономерностях ценообразования на олигополистическом, то есть контролируемом несколькими крупными поставщиками, рынке, и в частности, о том, что эти закономерности существенно отличаются от тех, которые действуют на рынке с атомистической структурой, где конкуренция является совершенной. Если в отрасли господствует небольшое число крупных фирм, так что конкуренция со стороны аутсайдеров ограничена, то они непременно договариваются между собой о повышении цены за счет ограничения предложения (производства), ибо это позволяет увеличить прибыль.
Именно такое, олигополистическое по своей природе повышение цен за счет ограничения производства произошло в широких масштабах в 1923 году в советской промышленности после образования трестов и синдикатов. Эти мощные объединения стали, по сути, монополистами в своих отраслях, а наша промышленность после их создания оказалась самой монополизированной в мире. При слабом тогда еще регулировании цен тресты и синдикаты, вполне естественно, встали на путь их повышения всеми правдами и неправдами. Они отказывались их снижать, несмотря на очевидную невозможность реализовать произведенную продукцию по таким завышенным ценам, поскольку продажа даже части изделий по искусственно вздутым ценам сулила ббльшую прибыль, чем продажа всех изделий по равновесным ценам, обеспечивающим клиринг рынка. Возник кризис сбыта, затоваривание, выглядевшее особенно нелепо и парадоксально в стране, только-только начавшей восстановление хозяйства и испытывавшей острую нужду в самых необходимых товарах.
Уже в конце 1922-го — начале 1923 года цены на промышленные изделия были повышены настолько, что ранее убыточные тресты стали работать с прибылью. Но даже и размер прибыли не отражал действительных масштабов монопольного завышения цен, ибо прибыль сплошь и рядом упрятывалась в себестоимость — издержки производства: в калькуляциях себестоимости завышались трудоемкость изделий, затраты на сырье и материалы, амортизационные списания и т. д., что позволяло укрывать прибыль от налогообложения и, главное, представлять дело таким образом, будто производство малоприбыльно, оправдывая этим дальнейшее повышение цен.
Скажем, Резинотрест в конце 1923 года настаивал на том, что себестоимость пары производимых им галош составляет 5,22 червонных рубля, и потому установленная отпускная цена в 5 рублей убыточна. При проверке же в Госплане оказалось, что обеспечивающая 10-процентную прибыль цена составляет всего 3,35—3,9 рубля2. Государственное управление топливной промышленности (ГУТ), монополизировавшее добычу угля в стране, повысило цены на уголь до уровня, ставившего на грань банкротства всех потребителей, и не Желало их снижать, несмотря на явное перепроизводство. Когда же по требованию Наркомата путей сообщения — одного из главных потребителей угля — ему были переданы два угольных района, выяснилось, что фактические издержки производства угля значительно ниже тех, которые фигурировали в калькуляциях ГУТа.
В полной мере использовала к своей выгоде монопольное положение и Конвенция метал -лосиндикатов, объединявшая тресты металлургической промышленности, машиностроения и металлообработки. Благодаря действиям Конвенции по искусственному ограничению сбыта металла и повышению цен на него на Урале возник металлический голод.
Один из участников Конвенции — синдикат Сельмаш, в который входили заводы сельскохозяйственного машиностроения, в 1922—1923 годах реализовал только '/4 продукции, тогда как /4 пошли на склад. К осени 1923 года запасы были уже в 2 раза больше, чем предполагалось реализовать в предстоящем году . Иначе говоря, отношение запасов на момент времени к среднемесячному объему продаж (показатель, широко используемый в западной статистике для оценки состояния конъюнктуры и колеблющийся, например, в обрабатывающей промышленности США в последние десятилетия в довольно узких пределах 1,4 — 1,9) — это отношение в советском сельскохозяйственном машиностроении в момент кризиса сбыта 1923 года составило 24! Сельмаш тем не менее не снижал цены, сознательно сдерживая сбыт, чтобы реализовать монопольную прибыль.
Ф. Дзержинский, более известный как глава службы безопасности (ВЧК - ОГПУ), но бывший, кроме того, и выдающимся хозяйственным руководителем (с начала 1924 года он — председатель ВСНХ, а до этого — нарком транспорта) и, вероятно, крупнейшим теоретиком «хозрасчетного социализма» после Ленина, особенно усердно боролся с монополистическими поползновениями отдельных ведомств и синдикатов. Во время кризиса сбыта 1923 года он прямо сравнивал политику Конвенции металлосиндикатов с действиями существовавшего до революции монополистического объединения «Продамет». «Это,— писал Дзержинский о Конвенции,— не государственный орган удешевления и увеличения массового производства, а орган вздувания цен, пользующийся своим монопольным положе-
Из общего правила, как и всегда, были, конечно, исключения. Всесоюзный текстильный синдикат (ВТС), возглавлявшийся энтузиастом синдицирования В. Ногиным, начал снижать цены по собственному почину, еще до решения правительства. Но в данном случае ВТС действовал в соответствии с общегосударственными интересами, благодаря сознательности своих руководителей и вопреки своей чисто коммерческой выгоде. Кроме того, монополия Текстильного синдиката не была абсолютной, подрывалась частником и кустарным крестьянским производством на дому пеньковых, льняных и шерстяных тканей, возраставшим по мере повышения синдикатских цен.
Осенью 1923 года, когда все склады были уже забиты, объем производства в государственной промышленности прекратил возрастать и почти год держался на этом искусственно заниженном уровне. Возникло исключительное для периода нэпа, да и для всей истории советской экономики, явление — цены частного рынка на промышленные товары оказались ниже цен государственного и кооперативного секторов, использовавших возможности их монополистического повышения. Все это явно требовало вмешательства государства, и оно действительно вмешалось. Сверху, из центра стали устанавливаться цены на промышленные товары, так что тресты и синдикаты лишились возможности монопольного давления на рынок. Снижая цены, государство оказывало нажим на производителей, заставляло их изыскивать резервы увеличения прибыли, мобилизовывать усилия на повышение эффективности производства, которое только и могло теперь обеспечить рост прибыли.
Широкая кампания по снижению цен была начата правительством еще в конце 1923 года, но действительно всеобъемлющее регулирование ценовых пропорций началось в 1924 году, когда обращение полностью перешло на устойчивую червонную валюту, а функции Комиссии внутренней торговли были переданы созданному Наркомату внутренней торговли с широкими правами в сфере нормирования цен. Принятые тогда меры оказались успешными: оптовые цены на промышленные товары снизились с
1 октября 1923 года по 1 мая
1924 года на 26 процентов и продолжали снижаться далее; запасы рассосались, рост производства возобновился.
Весь следующий период до конца нэпа вопрос о ценах продолжал оставаться стержнем государственной экономической политики: повышение их трестами и синдикатами грозило повторением кризиса сбыта, тогда как их понижение сверх меры (при существовании наряду с государственным частного сектора) неизбежно вело к обогащению частника за счет государственной промышленности, к перекачке ресурсов государственных предприятий в частную промышленность и торговлю. Частный рынок, где цены не нормировались, а устанавливались в результате свободной игры спроса и предложения, служил чутким барометром, стрелка которого, как только государство допускало просчеты в политике ценообразования, сразу же указывала на непогоду.
Трудно было ожидать, что у правительства, впервые в мире приступившего к всеобщему регулированию цен и не имевшего в этой области вообще никакого' опыта, получится все и сразу. Даже сейчас, когда экономическая наука продвинулась в области анализа цены далеко вперед и разработаны математические модели движения цен, существуют большие сомнения в практической способности центрального органа обоснованно и эффективно регулировать не то что все, но даже главные ценовые пропорции. Тем более это верно в отношении того времени: сам председатель ВСНХ Дзержинский называл нажим на предприятия с помощью низких цен «топорной работой». На практике дело выглядело таким образом, что центр, будучи просто не в состоянии проверить правильность калькуляций цен отдельных изделий, представлявшихся в Наркомат внутренней торговли трестами и синдикатами, все-таки терял контроль над обстановкой, пропуская то там, то здесь необоснованные повышения цен. Поэтому периодически проводились кампании по снижению цен на промтовары (кампании 1924, 1926, 1927 годов), в ходе которых, вероятно, не всегда снижались только те цены, которые были искусственно завышены.
Однако в целом и в общем регулирование цен было несомненно успешным. Главные ценовые пропорции выдерживались. Общий уровень цен после того, как в оборот в 1922 году был внедрен червонец, хотя и колебался довольно сильно, но в целом не повысился. Государственная экономическая политика с помощью специфических, не известных ранее методов — через изменение цен и распределение субсидий на расширение производства — обеспечила в общем успешное регулирование объема выпуска в рыночном хозяйстве с сильными элементами монополии. Это исторический факт и важнейший экономический итог нэпа.
Но в регулировании цен была и другая, не очень заметная на первых порах тенденция. Ценообразование осуществлялось бюрократическим аппаратом, обладавшим собственными интересами, отличными от интересов рабочего класса и крестьянства, и использовавшим любую возможность для расширения своей власти. Чем дальше, тем больше аппарат превращал регулирование цен в рычаг установления своего господства над экономикой.
Трагизм ситуации состоял в том, что тогдашняя рыночная экономика не могла ничего противопоставить экспансионистским устремлениям бюрократии. Адекватного рыночной экономике эффективного политического механизма, блокирующего ненасытное стремление аппарата к узурпации не только политической, но и экономической власти, не было. Развитой системы политического контроля над аппаратом со стороны низов, непосредственных производителей не существовало.
Отсутствие демократизма в процессе принятия решений, касающихся ценообразования, стало в конечном счете ахиллесовой пятой рыночной социалистической экономики и сыграло роковую роль в судьбе нэпа. Начав с нужного — с регулирования важнейших ценовых пропорций с целью поддержания сбалансированного хозяйственного роста, неподотчетная трудящимся массам высшая бюрократическая прослойка в конце концов использовала делегированные ей полномочия в сфере установления цен для реализации своих амбициозных политических замыслов и разрушения нэповской экономики.
Некоторое время все еще держалось на честности, идейности, принципиальности авторитетных руководителей. До тех пор, пока в партии и правительстве сохранялась еще здоровая демократическая атмосфера, можно было противодействовать наступлению бюрократии, и регулирование цен проводилось все-таки прежде всего и главным образом в интересах дела, для обеспечения сбалансированного хозяйственного роста. Но силы набиравшей ход бюрократической машины и отдельных партийцев, в полной мере осознававших надвигавшуюся угрозу, были явно неравными.
К середине 20-х годов обнаружились противоречия между Наркоматом внутренней торговли, осуществлявшим регулирование цен, и ВСНХ. Руководимый с 1924 года Дзержинским ВСНХ оставался самым демократическим органом хозяйственного управления. Созданный в первые месяцы после революции, он опирался на профсоюзы, выдвигавшие в ВСНХ своих выборных представителей. К концу 1920 года в президиуме ВСНХ и губернских советах народного хозяйства около 60 процентов всех членов были рабочими. Ленин не раз писал, что именно профсоюзы создали Высший совет народного хозяйства, а в перспективе неизбежен переход в руки профессиональных союзов дела строительства крупного производства и таким образом слияние профсоюзов с органами государственной власти .
Хозяйственная бюрократия концентрировалась и росла после смерти Ленина в основном не в ВСНХ (хотя и о «своем» аппарате Дзержинский не раз отзывался далеко не лестно), а в Наркомвнуторге, который подчинялся Л. Каменеву, сначала как председателю Совета Труда и Обороны, а затем и непосредственно — как наркому внутренней торговли. ВСНХ регулировал хозяйственную деятельность трестов с помощью субсидий, выдававшихся на расширение производства, Наркомвнуторг — через установление цен.
В 1925—1926 годах ВСНХ и Наркомвнуторг разошлись по двум принципиальным вопросам. Дзержинский считал невозможным проведение индустриализации за счет крестьянства, Каменев требовал «раздеть мужика». Дзержинский, далее, решительно возражал против планов «жестких завозов» товаров, предлагавшихся Каменевым, которые, по сути, означали переход к прямому директивному планированию производства. Наркомвнуторг в полном согласии с законами внутреннего развития бюрократического аппарата, начав с регулирования цен, теперь требовал расширения своего влияния, предоставления ему права планировать производство в натуре, невзирая на цены.
Широкие полномочия по регулированию цен были предоставлены аппарату (Комвнутор-гу) осенью 1923 года, во время кризиса сбыта: это было необходимостью, ибо рыночная монополизированная экономика не могла нормально функционировать без регулирования цен из центра. Со временем, однако, аппарат регулирования, образованный в интересах трестов и синдикатов, стал выходить из-под их контроля и работать против тех, кто его создал; из слуги аппарат превращался в господина, все больше и больше покушаясь на породившую его рыночную экономику. Рынок мешал Наркомвнуторгу, как он мешает бюрократии вообще, не терпящей рядом иных механизмов регулирования, кроме своего собственного бюрократического, командно-административного. По сути, Наркомвнуторг стремился подменить рынок собственным планированием производства, распределения и потребления, так, чтобы он, Наркомвнуторг, мог сам решать — какие, куда и сколько ресурсов направлять. Особенно мешало Наркомвнуторгу, конечно, море неподвластных ему крестьянских хозяйств, имеющих возможность выбирать, кому продавать хлеб — государству или на свободном рынке.
ВСНХ сопротивлялся наступлению Наркомвнуторга. Дзержинский просил дать ему отставку или передать в ею подчинение Наркомвнуторв, иба дальше работать так было нельзя - любой вопрос увязал в бюрократических согласованиях, и Ленин, и Дзержинский слишком хорошо понимали, чем чревато дальнейшее вмешательство Наркомвнуторга в рыночные связи, его попытки изменить народнохозяйственные пропорции вопреки рыночным силам. Главное, считал он, не делать крупных ошибок в хозяйственной политике, не дать оппозиции возможности сыграть на экономических промахах правительства. Если мы не возьмем правильной линии в руководстве народным хозяйством, не найдем- правильного темпа, писал он в июле 1926 года В. Куйбышеву, сменившему его затем на посту руководителя ВСНХ, «оппозиция наша будет расти, и страна тогда найдет диктатора — похоронщика революции, какие бы красные перья ни были на его костюме...»6. Эти слова, написанные Дзержинским незадолго до смерти, оказались пророческими. Он ошибся разве что в одном — оппозиция использовала даже не промахи ВСНХ в экономической политике (таких крупных промахов практически не было). Она воспользовалась политической ситуацией, в которой отсутствовал контроль снизу над аппаратом.
Свертывание нэпа
Шел 1925-й год: народное хозяйство успешно и быстро восстанавливалось, было уже ясно, что в следующем году по большинству показателей страна выйдет на уровень 1913 года, и начнется собственно расширение производства, строительство новой социалистической экономики. Какой она должна стать, куда, в какие отрасли направить средства в первую очередь — эти вопросы превращались из чисто абстрактных в практические, осязаемые и злободневные. Необходимость индустриализации, широкого обновления производственного аппарата в промышленности, перевода предприятий на новый технический базис понимали все. Но где взять современное оборудование в огромной крестьянской стране с архаичной промышленностью? Произвести его на отсталых машиностроительных заводах внутри страны было невозможно. И поэтому выход был один — закупить технически совершенное оборудование для станкостроительных заводов за границей, построить эти заводы и с их помощью перевести на новую техническую основу всю промышленность и все народное хозяйство. Нужна была валюта, а валюту давал хлеб и еще раз хлеб — традиционный экспортный товар, главная статья экспорта дореволюционной России.
Все упиралось, таким образом, в хлебозаготовки, от увеличения которых зависели сроки и темпы превращения Советской России из аграрной, отсталой в передовую промышленную державу. По вопросу о том, как проводить эти хлебозаготовки — а' фактически по вопросу о путях индустриализации,— мнения в партии разошлись еще в 1925 году. К XIV съезду, собравшемуся в последние дни 1925 года, оформилась «новая оппозиция» во главе с Г. Зиновьевым и Л. Каменевым, требовавшая расширить сельскохозяйственный экспорт за счет наступления на «зажиточные элементы» в деревне. Считая, что крестьянское накопление представляет угрозу для социализма, они фактически настаивали на изъятии сельскохозяйственного прибавочного продукта в пользу города, на замене, как выразился Ф. Дзержинский, лозунга «лицом к деревне» лозунгом «кулаком к деревне».
Через год с аналогичными требованиями выступил Л. Троцкий. Предсказывая неизбежность разрыва союза с крестьянством, он настаивал на максимально высоких темпах индустриализации, финансируемой за счет деревни — через увеличение налогообложения крестьян, повышение цен на промышленные товары и прочее.
Между тем хлебозаготовки, с которыми связывались все надежды на будущую индустриализацию, шли не слишком гладко. Осенью 1925 года план закупок зерна для экспорта, который должен был дать валюту для закупки зарубежного оборудования, выполнен не был. В 1926 году, правда, государственные заготовки увеличились до 11,6 миллиона тонн против 8,9 миллиона тонн в 1925 году, но и этого было мало. А потом началось даже снижение объема заготовок — до 11,0 миллиона тонн в 1927 году и до 10,9 миллиона тонн в 1928 году.
Страсти вокруг хлебозаготовок накалялись: чисто хозяйственный вопрос превращался в важнейший политический, от принимаемых решений зависело будущее политики нэпа, будущее «хозрасчетного социализма». По существу, речь шла о том, чтобы повысить долю фонда накопления в национальном доходе, обеспечив таким путем ускоренное расширение инвестиций в техническую реконструкцию основных фондов. По существу, речь шла о крутой ломке важнейшей пропорции воспроизводства — между потреблением и накоплением. Но в конкретной ситуации того времени все упиралось в государственные заготовки зерна.
Экономический, хозрасчетный, естественный путь к увеличению государственных заготовок зерна лежал через повышение заготовительных цен и одновременное повышение налогообложения сельскохозяйственных производителей. Высокие заготовительные цены стимулировали бы продажу крестьянами хлеба государству, а не на свободном рынке. Высокие налоги, в свою очередь, нужны были для того, чтобы покрыть расходы государства на заготовки зерна по повышенным ценам и вместе с тем изъять часть полученных крестьянами от продажи хлеба денег, которые промышленность не могла обеспечить товарами,— к 1925—1926 годам кризис сбыта сменился уже товарным голодом, спрос на потребительские товары превышал предложение, и обеспечить сбалансированность рынка при одновременном расширении фонда накопления можно было только путем повышения налогов.
Другой вопрос — нужно ли было резкое повышение нормы накопления, ведь темпы экономического роста и так были в 20-е годы самыми высокими в мире при умеренной доле фонда накопления в национальном доходе. Нужно ли было тогда подгонять историю, форсировать естественное развитие событий? С позиций сегодняшнего дня ответ очевиден. А тогда... тогда экономические стимулы и хозрасчетные методы не были использованы для повышения нормы накопления через увеличение хлебозаготовок. Был выбран другой путь — государство приступило к внеэкономическому принудительному изъятию зерна у крестьян.
Ломать об коленку, казалось, видимо, проще, привычнее. Для организации эффективной налоговой системы, способной обеспечить государству потребные масштабы накопления и столь необходимые ему ресурсы хлеба, нужны были знания, умение и, конечно, какой-то минимум терпения. Ни того, ни другого, ни третьего у тогдашнего руководства не было.
Заготовительные цены повышены не были — на основные сельскохозяйственные продукты они оставались на стабильном «нэповском» уровне. Скажем, пшеница заготавливалась в конце 20-х — начале 30-х годов так же, как и в середине 20-х, по цене 6 — 8 рублей за центнер «старыми деньгами»,
центнер в нынешнем масштабе цен, «новыми деньгами». Между тем с 1928 года начинается бурный рост розничных цен на все товары — и промышленные, и сельскохозяйственные. Разрыв в ценах государственных и частных заготовок хлеба достигает 100 процентов. Крестьяне, конечно, предпочитают продавать зерно частнику — по более высоким ценам, что и создает трудности с государственными заготовками. В 1926/27 и 1927/28 годах плановые заготовительные цены едва покрывали себестоимость зерна. В 1928/29 году они, правда, оказались выше себестоимости на 23 процента 7, но вследствие роста розничных цен на предметы потребления реальные доходы крестьян стали сокращаться.
Для увеличения хлебозаготовок начинают применяться методы продовольственной разверстки. В апреле и июне
1928 года пленумы ЦК партии еще осуждают обходы дворов с целью конфискации хлебных «излишков», незаконные обыски, заградительные отряды, запреты на базарную торговлю и прочее, но машина разверстки уже запущена и набирает обороты. Осенью 1928 года к кулакам, да и ко многим середнякам начинают применяться чрезвычайные меры — за сокрытие хлебных излишков привлекают к суду, хлеб конфисковывают, причем '/4 его часть отдается деревенской бедноте. Возрождается общинный принцип круговой поруки — крестьянам самим предоставляется право разверстывать план хлебозаготовок между отдельными хозяйствами. Развивается контрактация — заключение договоров с крестьянскими хозяйствами на поставку им средств производства только в обмен на зерно. Нередко условием контракта было объединение крестьян в колхоз. Государственные заготовки фактически превращались из добровольных, объем которых регулировался экономическими рычагами (ценами, налогами), в обязательные, принудительные, во внеэкономическое изъятие произведенного продукта. С лета 1929 года, когда началось форсированное создание колхозов, принудительные заготовки становятся правилом и резко расширяются — до 23 миллионов тонн в 1930 году.
Вновь созданные колхозы строили свои отношения с государством на основе контрактации — договоров об обязательной поставке сельскохозяйственной продукции в обмен на промтовары; в 1933 году контрактация была заменена системой обязательной сдачи продукции государству по твердым нормам — с каждого гектара плановых посевов — и по твердым ценам. Колхозы, таким образом, остались кооперативами только по форме, точнее — по названию, а по сути превратились в государственные нехозрасчетные предприятия, главной задачей которых было выполнение плана сдачи продукции. Немногим оставшимся единоличникам также вменялось в обязанность сдавать государству мясо, молоко, картофель, рис, шерсть.
В конечном счете зерно все-таки было заготовлено и вывезено. В конечном счете именно экспорт хлеба обеспечил валюту для индустриализации: в годы первой пятилетки 40 процентов экспортной выручки дал вывоз зерна. В 1931 году на СССР пришлось 1 /3 мирового импорта машин и оборудования, а 80— 85 процентов всего установленного в этот период на советских заводах оборудования было закуплено на Западе 8.
Индустриализация на деле осуществлялась в полном соответствии с рецептами разгромленной незадолго до этого «новой оппозиции» и троцкистов — за счет выкачивания средств из далеко не зажиточной деревни, экономика которой только-только превзошла довоенный уровень. На бумаге, в официальных документах это отрицалось, но фактически, на практике, это было именно так. Н. Бухарин и его сторонники, пытавшиеся остановить введение разверстки в деревне и свертывание нэпа, в 1929 — 1930 годах были сняты с ответственных постов в партийном аппарате.
В конце концов за счет принесения в жертву сельского хозяйства было достигнуто крутое перераспределение национального дохода в пользу фонда накопления. Отношение валовых капиталовложений к национальному доходу возросло почти в 1,5 раза. Но столь резкая ломка главной пропорции воспроизводства была фактически достигнута ценой разрушения хозрасчетной экономики. Смычка города и деревни, союз пролетариата и крестьянства, которые Ленин считал первейшим и главнейшим залогом успеха российской революции, трансформировались в систему организованной внеэкономической эксплуатации деревни городом, в систему принудительного выкачивания не только прибавочного, но и необходимого продукта из сельского хозяйства в пользу промышленности.
В дополнение к этому широким фронтом шло свертывание нэпа и по другим направлениям. В промышленности в соответствии с постановлением Совнаркома 1927 года трестам стали устанавливаться производственные планы. В конце 1929 года тресты были преобразованы из мощных хозрасчетных предприятий в посредническое звено в управлении промышленностью, а в начале 30-х годов они фактически прекратили свое существование. Синдикаты, напротив, из органов сбыта и снабжения были в том же
1929 году преобразованы в отраслевые промышленные объединения (главки), взявшие на себя функции планового регулирования деятельности предприятий. Фактически восстанавливалась жестко централизованная система управления промышленностью периода «военного коммунизма». С 1928 года синдикатская торговля стала заменяться распределением ресурсов сверху по фондам и нарядам: к концу 1930 года только 5 процентов промышленной продукции поставлялось по договорам поставщиков с потребителями против 85 процентов в предыдущем году.
Частник последовательно вытеснялся из всех отраслей. К 1933 году приходящаяся на частный сектор доля производства сократилась по сравнению с 1928 годом с 18 до 0,5 процента в промышленности, с 97 до 20 процентов в сельском хозяйстве, с 24 процентов до нуля в розничной торговле. Начавшееся по инициативе государства в
1927 году свертывание концессий фактически закончилось к 1933 году, когда были аннулированы все концессии, за исключением нескольких рыболов-
Налоговая реформа 1930 года заменила 63 вида различных налогов и платежей, с помощью которых государство ранее регулировало развитие экономики, двумя основными платежами предприятий — налогом с оборота и отчислениями от прибыли (для колхозов ту же роль выполнял подоходный налог). С введением обязательных плановых заданий фискальные рычаги регулирования производства утратили свое значение, и у налогов осталась только одна функция — обеспечивать доходы казны. Разнообразие налоговых платежей, ставшее в сложившихся условиях своего рода декоративной надстройкой,сочли ненужным излишеством, создающим путаницу, и ликвидировали.
В 1930—1932 годах прошла кредитная реформа, фактически заменившая кредит плановым банковским финансированием. Коммерческий кредит — одних предприятий другим — был запрещен и заменен прямым централизованным кредитованием. Было упразднено вексельное обращение. Долгосрочный кредит — на инвестиции — для государственных предприятий и организаций вообще отменялся. Вместо него вводилось безвозвратное финансирование, производившееся несколькими банками долгосрочных вложений, которые, по сути, уже не являлись кредитными учреждениями: на счетах этих банков, подчинявшихся Наркомату финансов, только концентрировались собственные финансовые ресурсы предприятий и бюджетные ассигнования, предназначенные для капитальных вложений, причем расходовать эти ресурсы банки могли только в соответствии с планами предприятий. Долгосрочный кредит в собственном смысле этого слова (предоставление требующих возврата ссуд под процент) был сохранен только для колхозов, промысловой и потребительской кооперации.
Краткосрочный кредит был сосредоточен в Госбанке: кооперативные банки были упразднены, а их операции перешли к Госбанку. К 1933 году на долю Госбанка приходилось уже 97 процентов всех краткосрочных кредитов9. Немногочисленным оставшимся частным предприятиям кредит был закрыт. Ко времени войны осталось только 7 банков — Госбанк, Внешторгбанк и банки долгосрочных вложений (последние в 1959 году были объединены в Стройбанк, так что число банков сократилось до
Таким было становление и утверждение административной системы. К исходу первой пятилетки командная экономика стала доминирующей во всех сферах хозяйственной жизни. Рынок, товарно-денежные формы связи между хозяйственными агентами повсеместно были вытеснены директивным плановым распределением ресурсов и продукции. Закончился тяжелейший период в истории советского народного хозяйства, содержанием которого стало свертывание социалистической рыночной экономики и переход к жесткой централизации при одновременном крупномасштабном перераспределении средств из фондов накопления и потребления деревни в фонд накопления города.
Если это и был троцкизм, то троцкизм в такой грубой, «азиатской» форме, которая, наверное, и не снилась никому из левой оппозиции 20-х годов. Как совершенно справедливо отмечал В. Данилов, «не станем отнимать у Сталина и его группы право на авторство насильственной экспроприации в отношении крестьянских масс» |0. Добавим от себя — и на все другое.
Бюрократия и рынок
«Не дано нам историей тише идти!» — доказывал В. Куйбышев, архитектор первых пятилеток, страстно боровшийся за ускорение развития тяжелой промышленности на постах председателя ВСНХ и Госплана в 1926—1935 годах. Это предчувствие войны, постоянное ощущение развития под дамокловым мечом внешней угрозы пронизывало тогда все общественное сознание снизу доверху.
Сейчас, наверное, бесполезно спорить, насколько обоснованными были в те годы предсказания о скорой неизбежной войне. Однако не следует обманывать самих себя: главное заключалось все-таки не в этом, особенно в 1929 году. Тар вопрос тогда не стоял — Гитлером тогда еще не пахло. Угроза войны была только предлогом, хотя и предлогом, находившим в людских душах вполне естественный отклик. И если бы такой угрозы в действительности не было, ее бы наверняка выдумали, как выдумали, например, в 60-е годы в Китае, которому никто не угрожал. Свертывание нэпа только оправдывалось необходимостью быстрой индустриализации в преддверии надвигающейся войны, но на деле, в жизни было вызвано совсем иными причинами. Решения о форсировании хлебозаготовок внеэкономическими методами, об отказе от хозрасчета, о ликвидации валютного рынка и т. д. принимались в те годы отнюдь не потому, что кто-то предвидел необходимость создания второй металлургической базы на Урале, без которой мы бы не выстояли во второй мировой
Смена хозрасчетной экономики командно-административной объяснялась не внешними, а внутренними причинами. За свертыванием нэпа стояли влиятельные социальные силы именно внутри страны, а не за ее пределами. И главной такой силой был бюрократический аппарат, узкая, но постоянно расширявшая свою власть прослойка высших чиновников-совслужащих.
Очень эффективная и динамичная, бившая все рекорды по темпам роста, полная сил и энергии социалистическая рыночная экономика оказалась фактически беззащитной перед экспансией ведомственного регулирования. Административная система не свалилась с неба как снег на голову, не была лишь плодом злого умысла отдельных людей. Она вызревала в недрах политической надстройки, венчавшей нэповскую рыночную экономику, она явилась логическим следствием развития бюрократического аппарата при отсутствии действенного контроля снизу. Рыночная экономика 20-х годов, обнаруживавшая такие способности к росту, которые никогда не возникали в административной системе даже в лучшие периоды ее истории, экономика, доказавшая всему миру возможность стремительного хозяйственного прогресса в обществе, построенном на коллективистских началах,— эта социалистическая по своей природе экономика была враждебна бюрократической машине. И она была побеждена этой машиной, не встретившей на своем пути достаточного сопротивления.
Уже вскоре после революции обнаружилось, что прослойка чиновников-совслужа-щих обладает собственными, далеко идущими интересами, в том числе и экономическими, отличными от интересов рабочего класса и крестьянства и нередко даже прямо противоположными им. Аппарат, призванный только исполнять волю трудящихся, на деле стал жить по своим законам, проявляя растущее стремление к узурпации власти, к подчинению себе всей политической и экономической жизни страны. В период «военного коммунизма» эта имманентно присущая аппарату тяга к разрастанию и расширению своего влияния в известной мере ограничивалась постоянно существовавшей опасностью военного поражения, чреватого для бюрократии потерей вообще всей власти. Аппарат был вынужден как-то себя сдерживать, отклоняться порой от принципов бюрократического регулирования в интересах дела, поступаться своими текущими интересами во имя сохранения главного. После победы в гражданской войне аппарат, в*=общем недовольный нэпом, ограничивавшим его бюрократические полномочия, все же принял его как объективную необходимость, ибо антоновщина и кронштадтский мятеж наглядно показали, во что может обойтись упорная приверженность командным методам управления. Но далее, в период нэпа, аппарат постоянно укреплялся и расширял свое влияние. Свертывание нэпа стало, по существу, победой аппарата над народным государством, над властью рабочих и крестьян, бюрократическим перерождением, от которого предостерегал Ленин задолго до этого.
До революции в теоретических построениях классиков марксизма будущее государственного аппарата рисовалось довольно определенным: берущий власть рабочий класс ломает буржуазную государственную машину, заменяя ее новым управленческим аппаратом. Две простые меры должны были гарантировать новый аппарат от бюрократического перерождения. «Полная выборность, сменяемость в любое время всех без изъятия должностных лиц, сведение их жалованья к обычной «заработной плате рабочего»,— писал Ленин за два месяца до революции, — эти простые и «само собою понятные» демократические мероприятия, объединяя вполне интересы рабочих и большинства крестьян, служат в то же время мостиком, ведущим от капитализма к социализму»11. Эти меры наряду с повышением культуры населения до такого уровня, который позволил бы каждому участвовать в управлении государством, должны были, по мысли Ленина, послужить основой отмирания всякого бюрократизма.
Жизнь, однако, оказалась сложнее. Простые меры не сработали. В полуграмотной крестьянской стране введенная всеобщая выборность всех должностных лиц снизу доверху не смогла стать гарантией от бюрократизации. Столоначальники, большие и маленькие, жалованье которых действительно установили после революции на уровне зарплаты среднего рабочего, изыскали многочисленные способы увеличения своих реальных доходов путем использования служебного положения. Не так просто оказалось дело и с политической культурой населения, умением и привычкой участвовать в общественных делах, способностью простых людей видеть связь между koнкретными каждодневными з ботами и общей политической ситуацией, между правительственной политикой и ее отдаленными последствиями. Для создания такой культуры в стране со слабым развитием элементарных демократических навыков и привычек (где только в 1917 году прошли первые по-настоящему свободные выборы) требовалась целая историческая эпоха. А без такой политической цивилизованности демократия превращалась в фикцию, вырождалась.
К борьбе с «бюрократическим извращением советской организации» Ленин призывал уже в апреле 1918 года, то есть менее чем через полгода после того, как такая организация возникла. После перехода к нэпу данная тема занимает все большее и большее место в ленинских работах,— его тревога и обеспокоенность обюрокрачиванием власти нарастают буквально день ото дня. Очень часто, пишет Ленин, аппарат работает «не для нас, а против нас». «Все у нас потонули в паршивом бюрократическом болоте «ведомств»,— констатирует он.— Большой авторитет, ум, рука нужны для повседневной борьбы с этим. Ведомства — говно; декреты — говно. Искать людей, проверять работу — в этом все» . Опасность, исходящая от бюрократий, расценивается Лениным как смертельная для социализма: «Без «аппарата» мы бы давно погибли. Без систематической и упорной борьбы за улучшение аппарата мы погибнем до создания базы социализма» 13. В одной из последних работ — «О кооперации» —Ленин называет две главные задачи, каждая из которых составляет эпоху. Первая — переделка аппарата, вторая — кооперация. При условии успеха на этих двух направлениях, пишет он, мы бы уже стояли двумя ногами на социалистической почве. Самая последняя работа — «Лучше меньше, да лучше» — опять-таки посвящена перестройке госаппарата: Ленин предлагает объединить наркомат рабоче-крестьянской инспекции, занимавшейся как раз борьбой с бюрократизмом в советских учреждениях, с Центральной комиссией — органом внутрипартийного контроля, рассчитывая, вероятно, таким образом предотвратить бюрократизацию партийного аппарата. Но это не было сделано ни до, ни после смерти Ленина.
Впрочем, даже осуществление этого плана вряд ли могло, наверное, что-то изменить. Политическая надстройка в целом явно не соответствовала рыночному экономическому базису. Однопартийная система с жестким контролем над советскими, профсоюзными и другими организациями, над средствами массовой информации, судами, церковью не обеспечивала свободного волеизъявления для большинства населения, зато давала в руки бюрократии необходимые для захвата всей полноты власти рычаги, которыми она не преминула воспользоваться.
Сначала непосредственных производителей лишили права самостоятельно устанавливать цены, а затем — и права самостоятельно определять объем и номенклатуру производства. Фактически это означало, что производители в ходе свертывания нэпа были лишены прав собственности — прав владения, пользования и распоряжения своими средствами производства. Собственность из коллективной и частной превратилась в ведомственно-бюрократическую, а реальная хозяйственная власть перешла к партийным органам, наркоматам, ведомствам, которые стали разверстывать планы и фонды по отраслям, регионам и предприятиям.
Именно этот вопрос о власти был коренным вопросом переходного периода. Двоевластие периода нэпа, то есть политическая власть у аппарата, а хозяйственная — у непосредственных производителей (трестов, синдикатов, кооперативов, единоличников), завершилось победой аппарата. Само же свертывание нэпа было не ошибкой отдельных лидеров и даже не ошибкой большинства. Это был переворот, «революция сверху», совершенная узкой бюрократической прослойкой против большинства населения, против непосредственных производителей — рабочих, крестьян, интеллигенции.
И большинство населения отнюдь не заблуждалось тогда насчет истинных своих интересов. Это большинство, причем абсолютное большинство, было решительно против «великого перелома».
Стомиллионное крестьянство в массе своей не приняло коллективизацию. Оно лишь вынужденно подчинилось ей. Как мог крестьянин, получивший в 1917 — 1918 годах землю, освобожденный в 1921 году от разверстки и поднявший свое хозяйство за 8 лет нэпа так, что в среднем производил на целую четверть больше продукции, чем в урожайном 1913 году,— как мог этот крестьянин примириться с тем, что у него отнимали все — и землю, и скот, и инвентарь? Разве можно сказать, что деревня приняла коллективизацию, если от половины до 2/3 дворов вырезало свой скот, даже лошадей, чтобы только не сдавать их в колхозы? Наконец, разве около двух тысяч крестьянских восстаний только за январь —март 1930 года — это свидетельство того, что крестьянин примирился с колхозом? Или таким свидетельством является сокращение уровня коллективизации с 50 до 21 процента всех хозяйств только за март—август 1930 года?
И ссылки на то, что в российском крестьянстве-де сильны были общинные настроения, в данном случае просто не относятся к делу. Община — это одно, а колхоз начала 30-х годов нынешнего столетия — совершенно другое. «Патриархальный» русский крестьянин ко времени революции уже более полувека пользовался личной свободой; более трети крестьянских хозяйств Европейской России уже находились вне общины, а те хозяйства, которые в ней оставались, имели собственный надел, скот, инвентарь. Все это допускалось предреволюционной частно-общинной системой землепользования, но все это пропало в одночасье с образованием колхозов и фактическим прикреплением крестьян к земле. Принять добровольно без сопротивления такой разгром мог только безумец. Крестьяне в массе своей не приняли его — даже не полна; информация о тех событиях позволяет считать этот вывод историческим фактом.
Сопротивление крестьян коллективизации фактически поставило страну на грань гражданской войны. «Расплачиваться «атакующему классу» приходилось не только жизнями комиссаров, чекистов, комбедов-цев, «двадцатитысячников», — писала в известной статье Н. Андреева,— но и первых трактористов, селькоров, девчонок-учительниц, сельских комсомольцев...» Все верно, но надо сделать по меньшей мере два уточнения. Во-первых, «обороняющийся класс», в данном случае крестьянство, нес несравнимо ббльшие потери: тысячи подавленных крестьянских восстаний, более 10 миллионов раскулаченных, миллионы спецпереселенцев и увенчавший коллективизацию страшный голод 1933 года — этим расплатилась за наступление «атакующего класса» деревня. Во-вторых, «атаковал» в ходе коллективизации совсем не тот класс, о котором писал Маяковский, не рабочий класс, а бюрократия. Рабочие ничего не получили от коллективизации, кроме карточного снабжения и мобилизации в заградительные отряды.
Более того, происходило и прямое наступление бюрократии на завоевания рабочего класса. Жизненный уровень его резко снизился. В ходе свертывания нэпа в промышленности рабочим пришлось поступиться многими своими правами: введение планов для трестов, ужесточение трудовой дисциплины, ограничение прав производственных коллективов и профсоюзов, переход к прямому установлению зарплаты «сверху» вместо прежней практики ее регулирования с помощью коллективных договоров,— все эти меры, начавшие осуществляться с конца 20-х годов, означали свертывание хозяйственной демократии. Фабричные и заводские комитеты, обладавшие столь значительным влиянием в 20-е годы, что в ходу даже был термин «двоевластие» (администрация — профсоюз), к началу 30-х годов потеряли всю свою самостоятельность. Профсоюзное руководство полностью сменили, а сами профсоюзы превратили, по сути дела, в придаток разраставшегося бюрократического аппарата.
Это — малоизвестная страница нашей истории. Обычно считается, что в отличие от крестьян и интеллигенции рабочий класс не подвергся репрессиям. На самом же деле репрессии были, и начались они еще в конце 20-х годов, когда ликвидировались независимые профсоюзы. О репрессиях же против интеллигенции и говорить нечего.
Короче, атаковала, наступала именно бюрократия, наступала решительно и на всех фронтах — и против крестьянства, и против рабочих, и против интеллигенции. В самой «наступающей армии» тоже практиковались репрессии, часто — «профилактические», так сказать, для поддержания порядка. Однако в целом как класс бюрократия явно выигрывала и в конце концов выиграла битву: в ее руках оказалась вся полнота власти, а также сопутствующие ей материальные привилегии. Но главное, конечно, именно власть.
И сегодня еще нередко приходится слышать мнение, что свертывание нэпа и переход к жесткой централизации хозяйства можно было осуществить бескровно, что репрессии никак не связаны с чисто экономическими переменами конца 20-х — начала 30-х годов, а объясняются лишь злоупотреблением властью. Это в лучшем случае — успокоительный самообман, по крайней мере если говорить о репрессиях именно того периода, то есть периода первой пятилетки. Обтекаемый термин «жесткая централизация хозяйства» не фиксирует в данном случае главного, а именно — социального содержания всего процесса, политического смысла «великого перелома». А смысл состоял как раз в перераспределении власти в пользу бюрократии за счет трудящихся. Централизация осуществлялась вопреки интересам подавляющего большинства населения, вопреки потребностям экономического развития, вопреки национальным приоритетам страны. И сопротивление централизации было закономерным, так же как и закономерным было использование репрессий для подавления этого-сопротивления.
Сказанное не относится, разумеется, к репрессиям 1937 — 1938 годов и позднейшего времени. Тогда административно-бюрократическая система уже утвердилась, оппозиция во всех слоях населения была в основном разгромлена, и тогдашние масштабные и особенно изощренные репрессии уже не только не были необходимы захватившей власть бюрократии, но порой и прямо вредили ей. Здесь вступила в силу порочная логика развития бюрократического организма, начинающего выдумывать «оппозиционные» блоки и «за го воры »^о еле того, как реальные силы, противостоящие режиму, уже уничтожены. Распространив свою власть на всю страну, аппарат стал пожирать сам себя. Неуемная жажда власти, имманентное стремление к расширению своего влияния во что бы то ни стало даже тогда, когда расширять его было уже вроде бы и некуда, часто толкали бюрократию на путь парадоксальных эксцессов, на то, чтобы фактически рубить сук, на котором она сидела. Лишь в критических ситуациях, когда сук был готов вот-вот обломиться, наступало некоторое отрезвление, и верх брал, если можно так выразиться, здравый смысл в его бюрократическом понимании.
Примеров, подтверждающих это, сколько угодно. Можно вспомнить, как Сталин, физически не переносивший социал-демократов, почитавший их за «социал-фашистов» и заставлявший Коминтерн бороться с ними за лидерство в рабочем движении всеми доступными средствами, к середине 30-х годов, поняв наконец, что укрепление фашизма создает реальную угрозу, нет, не всему человечеству (это бюрократию не интересовало), а возглавляемому им режиму, в 1935 году на VII конгрессе Коминтерна одобрил все-таки, хотя и с опозданием, курс на создание широких антифашистских коалиций, включающих и социалистов. Как позднее в рамках этого курса была оказана поддержка республиканскому правительству в Испании и буржуазному гоминдановскому правительству в Китае. Можно также сказать и о том, как в критический период войны, когда немцы стояли под Москвой, из лагерей в действующую армию возвращались репрессированные военачальники. Или о том, как была во время войны децентрализована хозяйственная система — исключительный случай в мировой истории! Ибо столь дорогая сердцу бюрократа, но крайне неэффективная жесткая централизация не позволяла наращивать производство вооружений быстрыми темпами.
Но, думается, нет нужды множить примеры, чтобы сделать простой вывод: внутренней пружиной становления и развития административной системы является стремление бюрократии к установлению режима неограниченной власти, к всемерному расширению этой власти, даже если это противоречит элементарным требованиям хозяйственной целесообразности и жизненным интересам трудящихся. Только в критических ситуациях, угрожающих самому существованию системы, бюрократия, преодолевая себя, обнаруживает готовность поступаться малой долей своей власти — не столько в интересах дела, как это порой выглядит со стороны, сколько в целях долгосрочного упрочения своего господства.
Об исторической альтернативе и упущенных возможностях
Так все-таки — была ли реальная альтернатива свертыванию нэпа? Неразвитость демократии, низкий уровень политической культуры населения, слабость механизмов, призванных обеспечить подчинение бюрократического аппарата подлинным интересам трудящихся,— все эти факторы, сыгравшие тогда роковую роль в судьбе нэпа, были объективной реальностью, имели солидные исторические основания, корни которых уходили в глубину веков. Разве могло сложиться в такой ситуации что-то иное, отличное от командно-административной системы?
Сделаем еще одно — на этот раз последнее — отступление, прежде чем дать ответ на этот, главный, вопрос. Попробуем уточнить, что же следует считать альтернативным вариантом развития, что является необходимым, а что — случайным в историческом процессе. Думается, в таких вещах без помощи философии не обойтись.
Если следовать важнейшему материалистическому тезису об объективном и всеобщем характере причинности (каждое явление имеет свою причину, существующую вне и независимо от сознания), то надо признать, что необходимыми, строго говоря, оказываются все явления, ибо каждое из них обусловлено каким-то уникальным стечением причин, каждая из которых, в свою очередь, имеет свою причину, и т. д. Случайностью в таком контексте иногда предлагают называть еще не познанную, не изученную причину, то есть не известную нам необходимость: по мере расширения нашего знания об обществе, в котором мы живем, по мере раскрытия причинной связи явлений события, казавшиеся прежде случайными, получают точные объяснения и расцениваются уже как необходимые.
Но есть и другое толкование этих философских понятий, и, по нашему мнению, оно более отвечает задачам настоящего анализа. Случайностью называется такое событие, которое не является необходимым в рамках данной системы при нормальном свободном ее развитии, а происходит потому, что данная система взаимодействует, пересекается с другой. При альтернативном варианте развития (если системы не взаимодействуют или взаимодействуют по-другому) такое случайное событие не может и не должно наступить. Скажем, если динозавры действительно вымерли от изменения климата вследствие столкновения Земли с каким-то космическим телом (как утверждает одна из гипотез), то это именно случайность, порожденная взаимодействием двух систем — астрономического движения космических объектов и биологического развития живой природы. Если бы такого пересечения систем тогда не произошло, если бы метеорит и наша планета разминулись в космическом пространстве, возможен был бы альтернативный вариант развития земной фауны — не исключено,
что динозавры как биологический вид здравствовали бы и до сих пор.
Так же и с развитием общества. Здесь взаимодействует множество систем: экономика, политика, сознание, психология, культура, традиции разных социальных слоев. Каждая из этих систем имеет свои, во многом автономные внутренние пружины развития, а варианты взаимодействия этих систем бесконечно разнообразны.
Если рассматривать цепь событий 20 —30-х годов в нашей стране в таком ключе, в рамках такого понимания исторической необходимости, надо признать, что свертывание нэпа отнюдь не являлось неотвратимым, предрешенным и неизбежным. Наоборот, это была случайность — воплощение в жизнь такого варианта развития, который, наверное, в то время, вплоть до середины 20-х годов, был едва ли не самым маловероятным из всех возможных.
Социалистическое рыночное хозяйство времен нэпа требовало адекватной себе демократической структуры, адекватного типа политического. сознания — плюрализма мнений, свободы печати, широкого участия всех и каждого в государственных делах. Но благодаря довольно редкому в истории стечению многих обстоятельств, благодаря в буквальном смысле этого слова игре случая все сложилось не в соответствии с закономерностями экономического развития, а вопреки им. Нормальное, естественное развитие социалистической рыночной экономики было прервано и обращено вспять вмешательством чужеродных факторов из сферы политики и общественного сознания. Это было, во-первых, нежелание правительства возродить после гражданской войны демократические институты и, во-вторых, снижение политической активности народных масс. Причем (что особенно важно) появление этих факторов, с точки зрения логики развития самой политической надстройки и самого общественного сознания, нельзя считать абсолютно закономерным и необходимым.
С общественным политическим сознанием в то время дело обстояло отнюдь не так плохо, как принято считать. Верно, что здесь особенно ощущался груз вековой отсталости, неграмотности, отсутствия элементарных демократических навыков.
Но верно и другое: ни одна другая страна не пережила в первые два десятилетия XX века трех революций, каждый месяц которых равнялся, как писал Ленин,— «в смысле обучения основам политической науки — и масс и вождей, и классов и партий — году «мирного» «конституционного» развития». А 1917 год по степени реальной демократизации общественной жизни, вовлеченности самых широких слоев населения в грандиозные социальные преобразования вообще нельзя сравнить ни с одним другим периодом отечественной истории. Февральская и Октябрьская революции всколыхнули огромные массы людей, втянули их в политическую борьбу, сделали активными участниками исторического процесса и действительными хозяевами своей судьбы. Повсеместно развивалось самоуправление. Выборные органы — Советы рабочих и крестьянских депутатов — взяли в свои руки реальную власть в центре и на местах. Застой и сползание в пропасть при агонизировавшем царском режиме сменились приливом энтузиазма и созидательной энергии.
Гражданская война и политика «военного коммунизма» вызвали естественный в подобных чрезвычайных условиях спад демократической активности. Но после того, как напряжение ослабло и был осуществлен поворот к нэпу, к нормальной хозяйственной жизни, существовали уже все условия для возрождения прежних традиций полноценного участия широких масс в общественных делах. И то, что эти традиции в значительной своей части были тогда преданы забвению, не восстановились в полном объеме, выглядит в этом контексте как историческая случайность, аномалия, нарушение логики поступательного развития, противоестественный прерыв постепенности, вызванный привходящими, в основе своей не необходимыми обстоятельствами. Речь идет, конечно, о том, что политический механизм предельной централизации власти, вызванный к жизни чрезвычайными условиями гражданской войны, после ее завершения не был подвергнут серьезной переделке, но в основе своей так и остался жесткой однопартийной диктатурой. Радикальнейшие изменения в экономике —
новая экономическая политика — не были подкреплены столь же радикальными изменениями в политике, хотя традиции, опыт недавнего прошлого толкали страну по пути именно такого развития событий.
Политическая система, сложившаяся в период нэпа, была явным шагом назад не только в сравнении с 1917 годом, когда демократизация всей общественной жизни достигла пика, но и — по многим позициям — даже в сравнении с предреволюционным периодом, с теми демократическими завоеваниями, которые были вырваны у самодержавия в ходе революции 1905—1907 годов. Все оппозиционные партии к началу 20-х годов прекратили существование. Советы, бывшие до Октября «силой без власти», во время нэпа фактически превратились во «власть без силы», ибо все важнейшие вопросы и в центре и на местах решались партийными органами, и только ими. После того как партия стала действовать в легальных условиях, да еще превратилась в правящую, должна была бы, по идее, получить развитие внутрипартийная демократия. Но и этого, к сожалению, не произошло. Возвышение бюрократии и захват ею власти, сначала политической, а потом и хозяйственной, стали в такой недемократической обстановке вопросом времени.
А ведь все могло сложиться иначе! Больше того — все шло к тому, чтобы сложиться иначе. В 1922 году, когда нэп стал приносить желанные плоды, народное хозяйство восстанавливалось, смычка города и деревни, рабочего класса и крестьянства крепла, антоновщина и Кронштадт остались позади и авторитет большевиков был высок как никогда, Ленин, между прочим, думал о возможности легализации меньшевиков, понимая, видимо, чем может обернуться монопольное право партии на власть. Это соответствовало прошлым демократическим традициям, соответствовало логике развития российских политических структур, наконец, соответствовало проведенным тогда масштабным экономическим преобразованиям. Но государственная власть в данном случае действовала вопреки всем этим императивам: ей удалось преодолеть демократические традиции, повернуть вспять процесс развития политической системы и в конце концов раздавить социалистическую рыночную экономику. После смерти Ленина ни один из тогдашних лидеров вопрос о радикальной реформе политической системы всерьез не ставил, хотя и во второй половине 20-х годов было, вероятно, еще не поздно остановить посредством последовательной демократизации разжимавшуюся пружину аппаратно-ведомственной экспансии.
Тогда мы стояли на развилке дорог. В истории наций и государств, как и в жизни отдельных людей, такие развилки не редкость. Часто один путь мало отличается от других, но иногда различия оказываются огромными, и выбор пути предопределяет исторические судьбы народа на многие годы. Такой ключевой развилкой в политике, вне всякого сомнения, был период нэпа, особенно его первые годы. Если бы мы тогда не остановились только на экономических реформах, а пошли бы дальше, по пути демократических политических преобразований, если бы тот высокий уровень демократизации всей общественной жизни, на который вывел страну 1917 год, даже не повышался далее, а был хотя бы только восстановлен в полном объеме после вынужденной диктатуры «военного коммунизма»,— убеждены, никогда бюрократический аппарат не смог бы захватить власть и свернуть нэп.
Огромное значение имеют, конечно, отдельные личности. Проживи Ленин еще 20 лет, и никакого свертывания нэпа, принудительной коллективизации, репрессий не было бы — таков еще один распространенный довод в пользу наличия альтернативного пути развития. Что же, вероятно, оно так и есть: даже при недемократической политической системе только одного авторитета Ленина, вероятно, хватило бы, чтобы заблокировать экспансионистские устремления бюрократического аппарата. И, кстати сказать, то, что болезнь лишила Ленина работоспособности именно в начале 1923 года, уж никак нельзя назвать исторической необходимоважнейшее значение имел, несомненно, и состав партийных кадров, настроения в правящей партии. О. Лацис справедливо обращает внимание на резкий рост численности членов партии в 1924—1927 годах (с 350 тыс. до 1,2 млн. человек, более, чем в 3 раза всего за 4 года) за счет притока новых членов с минимальным политическим опытом и теоретическим багажом. Молодое, незрелое пополнение к концу 20-х годов с лихвой перевесило партийцев с подпольным стажем, что и позволило Сталину получить поддержку большинства партии и направить затем репрессии против меньшинства |6.
Но в данном случае речь даже не об этом — не о личностях и не о составе партийных кадров. При развитой системе демократического контроля над партийными и правительственными органами Сталин и его ближайшее окружение никогда не сумели бы привести бюрократию к абсолютной власти. Был бы Сталин, не было бы Сталина, была бы у него поддержка партии или нет, но при демократической политической системе, при реальной власти Советов чрезвычайное управление и репрессии оказались бы не то что не необходимыми, но и просто невозможными.
Попробуем теперь помечтать и хотя бы в общих чертах представить себе, куда вела та, другая дорога, с которой мы свернули в 20-е годы. По некоторым оценкам, в реальности к концу 30-х годов мы несколько опережали Германию по величине национального дохода, отставая при этом примерно вдвое по объему промышленного производства. Еще и в 1950 году объем промышленного производства у нас был несколько ниже, чем даже в ФРГ, а не во всей Германии. При сохранении же нэпа и его средних темпов развития индустрии советская промышленность к концу 30-х годов, как минимум, превзошла бы немецкую по объему производства, в том числе и по объему производства военного.
Представим себе, что не было нелепой сталинской установки на борьбу с социал-демократией, «как с опорой нынешней фашистской власти», установки, принимавшейся Коминтерном как руководство к действию в период до 1935 года и после 1939 года (после пакта о ненападении с Германией). Возможно, преувеличение говорить, что эта установка, расколовшая рабочее движение на Западе, привела фашистов к власти в Германии, как это, похоже, утверждается в недавно опубликованном письме Э. Генри к И. Эренбургу . Но то, что такая политика облегчила усиление фашизма в мире,— бесспорно.
Представим далее, что не было бы бессмысленных чудовищных репрессий в стране. Предположим, что не было бы безумного избиения кадров Красной Армии, так что после такого избиения дивизиями стали командовать даже капитаны. Допустим, что Тухачевский, Уборевич, Якир и другие, отстаивавшие концепцию ускоренного развития танковых соединений, не оказались бы «врагами народа», а сама концепция не была бы расценена как вредительство; что Ворошилов не расформировал бы воздушно-десантные войска, поразившие иностранных наблюдателей на украинских маневрах 1935 года; что наши авиация и авиапромышленность не испытали бы на себе всю разрушительную силу бессмысленного сталинского террора.
К концу 30-х годов мы имели бы тогда на политической карте, с одной стороны, куда более мощный как в экономическом, так и в военном отношении Советский Союз, по меньшей мере не уступающий по своему военно-экономическому потенциалу Германии, а с другой — более слабый, чем это было в действительности, фашистский блок. Как бы тогда развивались события в августе — сентябре 1939 года, сказать, конечно, трудно. Англия и Франция явно вели двойную игру, потворствуя Гитлеру в надежде направить его основной удар на Восток,— отказ от серьезной помощи Испании, ставшей одной из первых жертв фашистской агрессии, и Мюнхенское соглашение навсегда останутся на их совести. Но ведь И Гитлер делал выбор, стараясь .вначале расправиться с самым'и слабыми противниками, оставляя более сильных на потом. Сначала это была Чехословакия, за ней Польша, в мае 1940 года в соответствии с этим принципом в качестве объекта агрессии была избрана Франция (производившая тогда почти вдвое меньше промышленной продукции и вчетверо меньше стали, чем Германия), в июне 1941 года — Советский Союз, но не Англия: в конце 30-х годов промышленность Англии производила почти столько же продукции, сколько германская (то есть почти вдвое больше, чем советская), ее отделял от континента труднопреодолимый Ла-Манш, и, кроме того, за ее спиной стояли США. Кто знает, если бы фашистской Германии противостоял более сильный Советский Союз, если бы финская война 1939 — 1940 годов не обнаружила для всего мира очевидной неподготовленности СССР к отражению агрессии, Гитлер, возможно, напал бы сначала на Англию. И тогда, возможно, советские техника и продовольствие поставлялись бы в Англию по ленд-лизу, а второй фронт был открыт не союзническими войсками в Нормандии, а советскими — в Польше.
Может быть, и наши союзники были бы в этом случае сговорчивее накануне самой войны, и литвиновская дипломатия, направленная на создание антигитлеровской коалиции с Англией, Францией и США, увенчалась бы успехом еще до августа 1939 года. При такой расстановке сил совместными усилиями мы смогли бы, вероятно, поставить эффективный заслон фашистской экспансии.
Что же дальше? А дальше снова быстрый экономический прогресс социалистической рыночной экономики, в ходе которого мы бы, как минимум, к настоящему времени догнали основные страны Запада по уровню хозяйственного развития, то есть по таким показателям, как производительность труда и доход на душу населения. По абсолютным экономическим показателям (объем национального дохода, промышленного производства и т. п.) мы бы, вероятно, существенно, в 1,5 — 2 раза опережали бы сейчас США, ибо население нашей страны на конец 80-х годов должно было бы составлять 400 — 500 миллионов человек (400 млн.— это при том крайнем предположении, что естественный прирост населения, составлявший в конце 20-х годов 2 процента, снизился бы затем до 1,5 процента). Иначе говоря, сегодня мы обладали бы крупнейшим в мире экономическим потенциалом, а не имели бы впереди себя 3 страны, а в перспективе близкой — и еще несколько государств.
После того как фашизм в конце 30-х — начале 40-х годов был бы повержен политическими средствами или в результате непродолжительной войны, геополитическое равновесие, даже если бы Германия осталась нерасчлененной, конечно бы, изменилось. На место прежнего традиционного военно-политического баланса (Англия, Франция, Россия против Германии) неизбежно пришел бы новый, биполярный, основанный на соотношении сил СССР и США, Востока и Запада. Это наверняка случилось бы еще в 40-е годы, когда Советский Союз и Америка по размерам своей военно-экономической мощи оставили бы позади все остальные страны. И даже если бы взаимное недоверие толкнуло бы поначалу две сверхдержавы на путь гонки вооружений и «холодной войны», разрядка началась бы никак не позже 50-х годов, когда сложился бы военно-стратегический паритет (включая ядерное оружие). А он непременно бы сложился, ибо экономика СССР, не обремененная издержками и чудовищным наследием сталинской эпохи, росла бы в 2—3 раза быстрее, чем это в действительности было: так что уже к началу 50-х годов, коли была бы в этом нужда, мы могли бы иметь без надрыва, не жертвуя ради этого самым необходимым, нужное нам количество боеголовок и носителей.
И сегодня мы бы имели стабильный безопасный мир, свободный от ядерного оружия, или с небольшим контролируемым международными договоренностями его количеством. И мы имели бы высокоэффективную, конкурентоспособную экономику, интенсивно взаимодействующую с мировым хозяйством и играющую в нем подобающую нашим возможностям роль. А каким высоким мог бы быть авторитет нашей страны повсюду в мире, если бы реальный социализм в глазах международной общественности ассоциировался бы не с бедностью и подавлением политических свобод, а с благосостоянием и демократией! И если бы народы всей планеты убедились не в теории, а на практике, на нашем примере, в преимуществах социализма — общества, основанного на самоуправлении трудовых коллективов и достигшего высшего расцвета демократизма.
Это — только некоторые из наших упущенных возможностей. Теперь мы уже никогда не узнаем всего того, что было потеряно. Не узнаем неродив-
шихся гениев и не прочтем ненаписанных книг.
Храм несбывшихся возможностей, храм вечной памяти мученикам народа — такой была мечта Андрея Платонова. «И встанет к жизни, что должно быть, но не свершено,— писал он.— Творчество, работа, подвиги, любовь — вся картина жизни несбывшейся. И что было бы, если бы она сбылась... Великая картина жизни и погибших душ, возможностей... мир, каков бы он был при деятельности погибших,— лучший мир, чем действительный...» Есть только один способ воздвигнуть этот храм — вступить наконец на тот путь, с которого мы свернули тогда, шесть десятилетий назад, на развилке дорог. Сегодня у нас тоже есть выбор, и мы не должны упустить шанс. Лучше поздно, чем никогда.
Движение вперед неизбежно связано с переосмыслением пройденного пути, с переоценкой прошлого. Трудно, неимоверно трудно признать сейчас, что многие из потерь тех лет были напрасны, что можно было обойтись без голода и лишений, без сверхчеловеческого напряжения и беспредельной самоотдачи. Ведь если оставить в стороне узкую бюрократическую прослойку, манипулировавшую национальным хозяйством и общественным сознанием в собственных узкокорыстных интересах, речь идет о миллионах людей, искренне, всей душой веривших в необходимость жертв и лишений, беспредельно убежденных в своей исторической правоте. Это целые поколения, вынесшие на своих плечах все тяготы индустриализации и коллективизации, войны и послевоенного восстановления. Да, они не знали всей правды — не по своей вине. И кто сейчас решится упрекнуть их в политической незрелости и близорукости?
Но, как бы то ни было трудно, нам надо пройти и через это — через осознание того, что была альтернатива, был другой путь, не сопряженный с трагическими потерями и бесполезной растратой ресурсов, с подавлением стимулов к труду, подрывом моральных устоев, падением международного авторитета и дискредитацией социалистических идеалов. От того, насколько глубоко осознаем мы сегодня эти уроки нашей собственной истории зависит в конечном счет успех начавшейся перестройки!
См. также: РуВики - Российская энциклопедия
Всего комментариев 0